


Русский рок
как культурный код
как культурный код
текстовый рок-концерт от «Нового Русского»
Русский рок – не просто музыка на русском языке, а культурный пласт, в котором соединились протест, духовный поиск и поэтическая традиция. Исследователи отмечают, что рок, «декларативно отвергая традицию, тем не менее существует в русле национальной культуры и являет собой новый этап развития русской словесности».
Главные интерпретации феномена:
- Голос свободы и оппозиции официальной советской культуре. Есть мнение, что «русский рок стал катализатором перехода от советского строя к демократии» и даже повлиял самым непосредственным образом на распад СССР. Но многие исследователи и авторы этой самой музыки скажут вам, что музыканты были просто музыкантами.
- Пророческая миссия, продолжающая линию классической поэзии. «Глаголом жечь сердца людей» – это кредо русского рок-поэта, наследника Пушкина и романтиков.
- Урбанистическая природа: рок вырос «из недр городской культуры», что предопределило его внутреннюю драму и обречённость.
Ценностный вакуум и поиск нового:
Борис Гребенщиков* ещё в 90-е заявил: «В современном обществе, где религия отвергнута, рок-музыка взяла на себя роль религии» – фраза, вызвавшая резонанс на Западе. Сегодня рок переживает «переоценку ценностей»: одни музыканты идут к православию (Кинчев, Шевчук), другие – к плюрализму и культу Свободы (Гребенщиков*).
Исследователи подчёркивают: «Русский рок сформирован на близких нам ценностях и моралях… Главное достоинство – слово, дух свободы души и сознания».
Исследователи подчёркивают: «Русский рок сформирован на близких нам ценностях и моралях… Главное достоинство – слово, дух свободы души и сознания».
«Русский рок умер». Правда ли это?
Эта фраза – мем, аксиома, интернет-рефлекс. Но что именно умерло? Не музыка – ярлык. В СССР «русским роком» называли всё, что не попса: от постпанка «Кино» до психоделии Мамонова, от ленинградского рок-клуба до сибирской волны Летова и Янки. Попробуйте объединить их в жанр – это всё равно что сказать, будто «английский рок» объединяет всех музыкантов от The Beatles до Joy Division.
Карнавал и метафизика
Исследователи называют русский рок карнавальным мифом: абсурд и мистицизм, двор и храм, птицы и алхимия. Это не лозунг «Долой режим!», а поиск риторики вне здравого смысла – альтернативная реальность для тех, кто чувствует себя чужим в советском и постсоветском мире.
Бахтинский карнавал, который из всех идей вызывает наибольшие возражения и споры, сводится к «инверсии двоичных противопоставлений» королём объявляется шут, епископом – сквернослов и богохульник, верх становится низом, голова — задом и половыми органами (материально-телесный низ, по терминологии Бахтина) в песнях Башлачёва, Гребенщикова*, Григоряна смешивается высокое и низкое.
Бахтинский карнавал, который из всех идей вызывает наибольшие возражения и споры, сводится к «инверсии двоичных противопоставлений» королём объявляется шут, епископом – сквернослов и богохульник, верх становится низом, голова — задом и половыми органами (материально-телесный низ, по терминологии Бахтина) в песнях Башлачёва, Гребенщикова*, Григоряна смешивается высокое и низкое.
“
Карнавал не созерцают, – в нём живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны”.
Как появились квартирники?
Примерно в 1980-е подпольное рок-движение переняло ещё одну бардовскую традицию – квартирники. Всё ещё недоступные официальные площадки, специальные кураторы, попытки рецензировать и изменять тексты привели музыкантов на квартиры, где проходили концерты не для всех. Здесь бывали только друзья и друзья друзей, проверенные слушатели. Иногда место держалось в секрете буквально до самого события – гостей встречали у метро и провожали.
Музыканты часто не были частью традиционной системы, могли не работать на стандартных должностях и заводах в силу очевидных причин. Некоторое время квартирники были платными, но так как это приравнивалось к предпринимательской деятельности и грозило тюремным заключением; и особенно после ареста фронтмена группы «Воскресение» Алексея Романова, практика прекратилась.
Музыканты часто не были частью традиционной системы, могли не работать на стандартных должностях и заводах в силу очевидных причин. Некоторое время квартирники были платными, но так как это приравнивалось к предпринимательской деятельности и грозило тюремным заключением; и особенно после ареста фронтмена группы «Воскресение» Алексея Романова, практика прекратилась.
- Бардовская традиция– это культурный феномен, возникший в СССР в 1950–1960-х. Она стала формой свободного самовыражения в эпоху, когда официальная эстрада была подчинена идеологии.
Бардовская среда складывалась из интеллигенции, студентов, инженеров, учёных, туристов. Это были люди с хорошим образованием, жаждой общения и потребностью говорить о том, о чём в открытую нельзя было. - Как одеваютсяОдежда чаще всего была непритязательной: свитера, гитара за плечами, туристическая куртка или поношенный пиджак. Внешний вид играл минимальную роль — главное было слово и песня.
- Где собираются
- турслёты и костры: походы, горные маршруты, байдарочные экспедиции. Там бардовские песни становились саундтреком к «романтике неофициальной жизни»;
- квартирники: тесные комнаты, матрас на полу, несколько десятков слушателей, гитара и голос. Формат «для своих», без сцены, без микрофонов, без официоза.
- Почему квартирники – часть риторикиКвартирники были не только формой концерта, но и символом: «мы свои, мы говорим тихо, но честно, в обход других». Это была поэзия доверия: песня обращалась не к абстрактному «залу», а к другу напротив.
- Связь с рокомРусский рок конца 1970-1980-х во многом вырос из этой традиции. Те же гитары, квартирники, тексты о внутренней свободе и человеческом достоинстве. Разница лишь в энергии: если барды говорили камерно и почти шёпотом, то рок взял ту же правду и вынес её на стадионы, усилил электричеством и бунтом.
Рок-клубы:
Ленинградский, Московский, Свердловский и Ростовский
Ленинградский рок-клуб: свобода под контролем
Ленинградский рок-клуб. Он стал символом и главным маркером культурной идентичности Петербурга, институцией, где рок оформили как явление и которое теперь работает на имидж города.
Создан в Ленинграде 7 марта 1981-го и просуществовал до начала 1990-х годов.
Ленинградский рок-клуб появился в 1981 году и стал сердцем всего движения. Клуб работал почти как «официальное подполье»: с одной стороны, требовалась «литовка» (цензурное разрешение) на каждую песню, с другой – именно через него рок-музыка стала публичной.
Ленинградский рок-клуб появился в 1981 году и стал сердцем всего движения. Клуб работал почти как «официальное подполье»: с одной стороны, требовалась «литовка» (цензурное разрешение) на каждую песню, с другой – именно через него рок-музыка стала публичной.
“
«Каждая песня должна была быть "залитована". Даже если музыкант ни на что в тексте не намекал, кому-то могло показаться, что он всё-таки намекает».
Про клуб писали газеты и говорили по «Радио Свобода» или «Би-би-си», но за концерт без разрешения грозила статья, а даже простое увлечение роком могло обернуться отчислением из вуза. Тем не менее, рок-клуб стал магнитом для молодёжи:
Концерт ДДТ в ленинградском ДК, (конец 1980-х, фото Виктории Ивлевой) / Вячесла Бутусов и Борис Гребенщиков* / Александр Башлачёв, выступление на 6-м конкурсе Рок-клуба
“
«Чтобы попасть на концерт, нужно было очень изловчиться. Многие не могли достать билет и просто залезали в окна туалетов или гримёрок».
Это было и творческое, и социальное объединение. Все знали друг друга, дружили, ссорились и мирились на кухнях. «Кино» поначалу воспринимались прохладно, но к концу 80-х уже собирали стадионы. Ленинградский рок-клуб стал «кузницей героев» – от Гребенщикова* до Цоя.
«Аквариум»
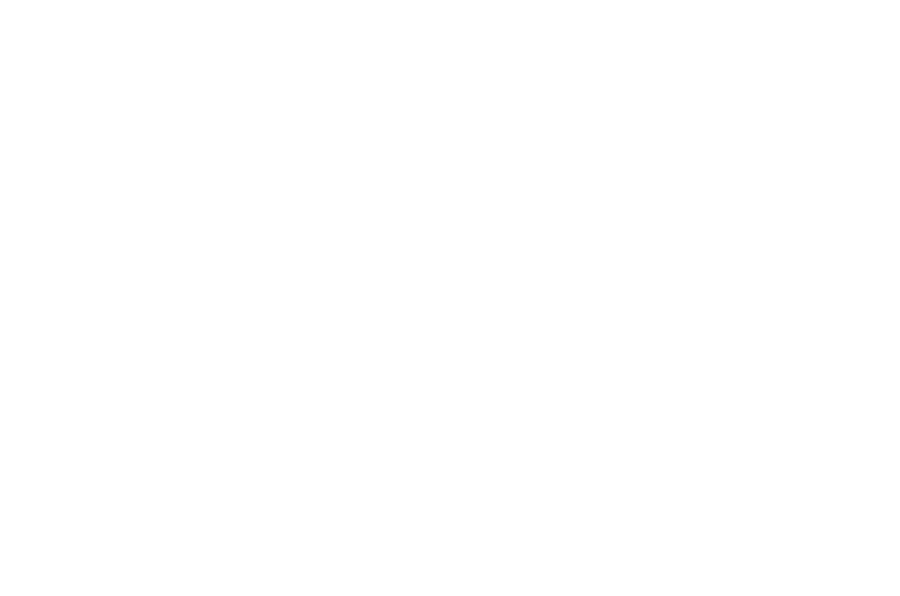
В 1972 году Борис Гребенщиков* и Анатолий Гуницкий создали «постмодернистский поэтически-музыкальный проект» под названием «Аквариум». Первые записи сделаны на магнитофон «Маяк-202».
На рок-фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси в 1980 году «Аквариум» сыграли свою музыку для большой аудитории в первый и пока последний раз – Гребенщиков* был уволен, изгнан из комсомола, а концерты стали проходить на квартирах. В 1987 году после объявления Горбачёвым гласности и перестройки музыканты записали первый официальный альбом «Равноденствие» в студии «Мелодия».
На рок-фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси в 1980 году «Аквариум» сыграли свою музыку для большой аудитории в первый и пока последний раз – Гребенщиков* был уволен, изгнан из комсомола, а концерты стали проходить на квартирах. В 1987 году после объявления Горбачёвым гласности и перестройки музыканты записали первый официальный альбом «Равноденствие» в студии «Мелодия».
В 1987 году на экраны вышел фильм Сергея Соловьёва «Асса», в саундтрек которого вошла музыка «Аквариума».
«А́сса» (1987) – культовая драма Сергея Соловьёва, снятая в Ялте за два месяца. Премьера в «Ударнике» сорвалась, но весной 1988-го фильм показали на арт-рок-параде в Москве, куда пришли 40 тысяч человек.
Главный герой Бананан – роль молодого художника Сергея «Африки» Бугаева, которого Соловьёву вместо себя порекомендовал Борис Гребенщиков*. В фильме звучит его «Город золотой», а финал стал легендой: Виктор Цой на сцене Зелёного театра поёт «Хочу перемен».
По одной из версий название придумал Сергей Бугаев: «Асса» – аббревиатура от «Автор Соловьёв Сергей Александрович», то ли крик Ноя после потопа. Рабочий вариант был куда более советский – «Здравствуй, мальчик Бананан».
В кадре – любовь без поцелуев, искусство вместо быта и рок, ставший голосом перемен.
«А́сса» (1987) – культовая драма Сергея Соловьёва, снятая в Ялте за два месяца. Премьера в «Ударнике» сорвалась, но весной 1988-го фильм показали на арт-рок-параде в Москве, куда пришли 40 тысяч человек.
Главный герой Бананан – роль молодого художника Сергея «Африки» Бугаева, которого Соловьёву вместо себя порекомендовал Борис Гребенщиков*. В фильме звучит его «Город золотой», а финал стал легендой: Виктор Цой на сцене Зелёного театра поёт «Хочу перемен».
По одной из версий название придумал Сергей Бугаев: «Асса» – аббревиатура от «Автор Соловьёв Сергей Александрович», то ли крик Ноя после потопа. Рабочий вариант был куда более советский – «Здравствуй, мальчик Бананан».
В кадре – любовь без поцелуев, искусство вместо быта и рок, ставший голосом перемен.
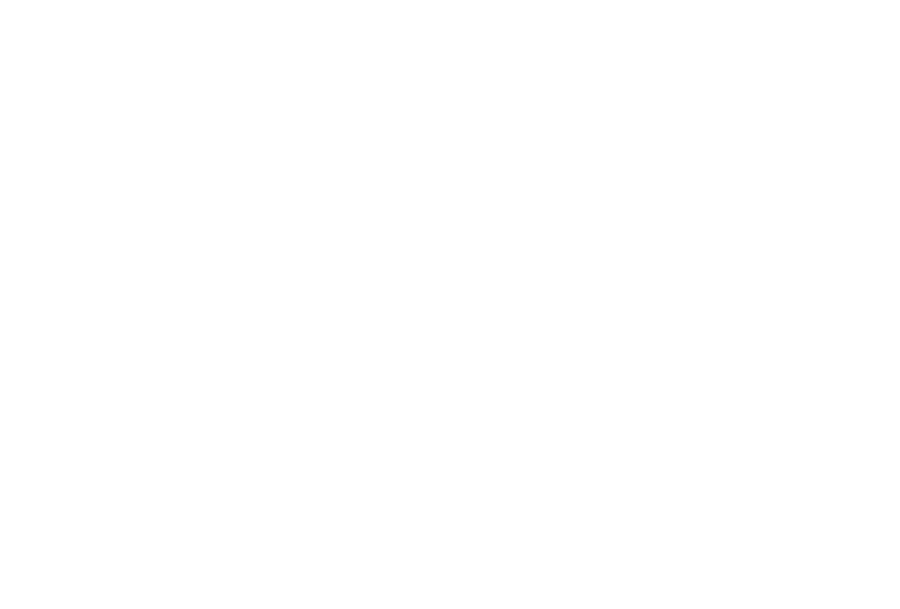
Фото: Александра Чумичева, Александра Шогина
Фотохроника ТАСС
Москва: рок-лаборатория и коммерция
В 1985 году в Москве появилась «рок-лаборатория» при ДК Горбунова («Горбушка»). В отличие от ленинградского клуба, московская сцена с самого начала была ближе к коммерческому формату и шоу-бизнесу.
Здесь звучала «Машина времени», «Воскресение», «Звуки Му», «Крематорий», «Браво». Параллельно оформилась тяжёлая сцена: «Ария», «Мастер», «Чёрный Кофе», «Коррозия Металла».
Московский рок был более ироничным, менее серьёзным и ближе к эстраде, чем петербургский. Многие группы шли в сторону гротеска и «несерьёзности» («Ногу свело!», «Несчастный случай», «Бахыт-Компот»). «Горбушка» играла роль тусовки, но не такой «кузницы кадров», как питерский рок-клуб.
Московский рок был более ироничным, менее серьёзным и ближе к эстраде, чем петербургский. Многие группы шли в сторону гротеска и «несерьёзности» («Ногу свело!», «Несчастный случай», «Бахыт-Компот»). «Горбушка» играла роль тусовки, но не такой «кузницы кадров», как питерский рок-клуб.
некоторые представители рок-клуба
- Машина времени1982 год
- крематорий
- браво
- ария1986 год
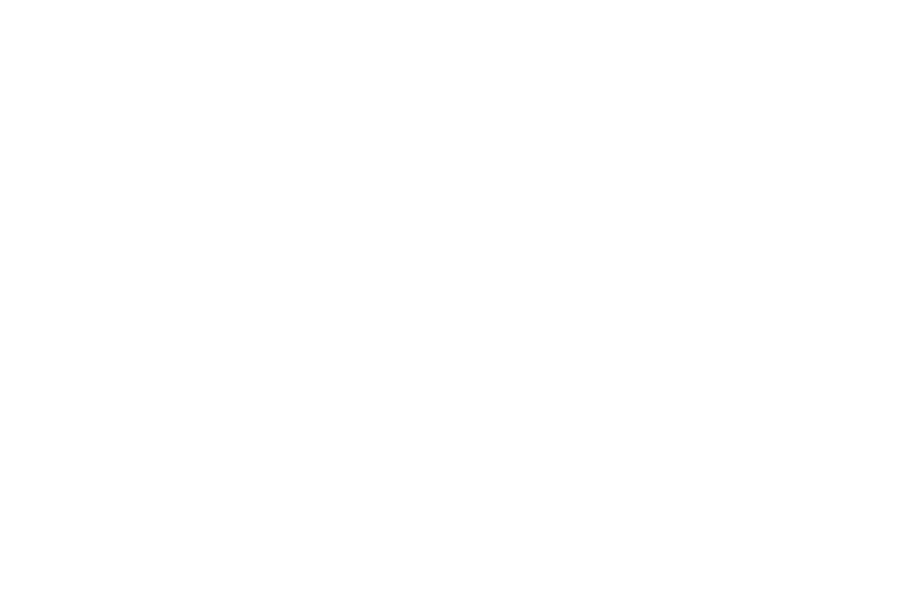
Звуки Му, 1989 год
фото И. Мухина
“
Больше всего запомнились выступления в так называемой Горбушке (ДК имени Горбунова — прим. ред.). Это была площадка для ежегодных фестивалей, где участвовали практически все лучшие группы. Там же проходили и Фестивали надежд, на которые приезжали молодые музыканты. Мы всем худсоветом принимали новые группы в рок-лабораторию. В худсовет входили в том числе мы с Мамоновым, Василий Шумов (лидер группы «Центр»), Артемий Троицкий на первых порах.
Фильм «Асса» по словам Александра Липницкого, вывел рок-музыку на огромные стадионы: на концерт, который снимался для финала картины, собралось около 10 тысяч человек. Его снимали в Москве, в Зелёном театре. На разогреве у группы «Кино» тогда выступили многие артисты московского рок-клуба.
Как говорили современники, Цой не понимал, почему песня «Перемен» так нужна фильму, прежде всего, потому что не считал её протестной:
«Она выглядит, на мой взгляд, вставным зубом... Ну, это скорее дело режиссера. В конце концов, я не мог предположить, каков будет конечный результат. Отвечает за это только режиссер. Я рад, что в этом фильме мне удалось выглядеть максимально отдельно от всего остального», — рассказывал он в интервью.
Как говорили современники, Цой не понимал, почему песня «Перемен» так нужна фильму, прежде всего, потому что не считал её протестной:
«Она выглядит, на мой взгляд, вставным зубом... Ну, это скорее дело режиссера. В конце концов, я не мог предположить, каков будет конечный результат. Отвечает за это только режиссер. Я рад, что в этом фильме мне удалось выглядеть максимально отдельно от всего остального», — рассказывал он в интервью.
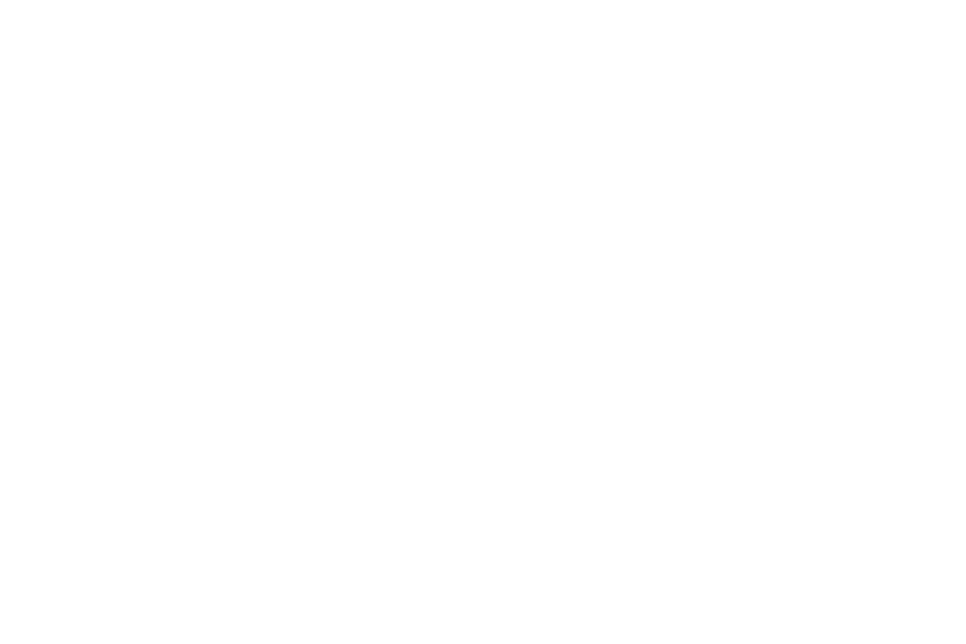
Урал: поэзия и сложные аранжировки
В 1986 году появился Свердловский рок-клуб. Он отличался особой литературностью и вниманием к тексту. Центральную роль играли братья Илья и Евгений Кормильцевы – поэты, поставившие текст в центр рок-процесса.
Здесь родились «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», Настя Полева и другие. В отличие от «квартирников» северной столицы, уральский рок тяготел к сложным аранжировкам, психоделике, клавишным партиям. Это была музыка «не для акустики» – и потому она звучала иначе и как будто вообще не была предназначена для акустического исполнения.
некоторые представители рок-клуба
- Агата Кристи
- Наутилус Помпилиус
- Чайф
- настя
Илья Кормильцев однажды услышал хит Bananarama Robert De Niro’s Waiting и написал по его мотивам стишок – ироничный, почти шутливый. Бутусов наложил на него «тревожную музыку» и сделал трагическую песню «Взгляд с экрана».
Из полушуточного текста вышла мрачная проекция советской реальности:
Трек вошёл в «Разлуку» (1986), позже в «Князя тишины». На ТВ его крутили под кадры «Маленькой Веры», а в клипе мелькали съёмки Балабанова. Деталь: в оригинале у Кормильцева был «тройной одеколон», но Бутусов отказался это петь.
Из полушуточного текста вышла мрачная проекция советской реальности:
Трек вошёл в «Разлуку» (1986), позже в «Князя тишины». На ТВ его крутили под кадры «Маленькой Веры», а в клипе мелькали съёмки Балабанова. Деталь: в оригинале у Кормильцева был «тройной одеколон», но Бутусов отказался это петь.
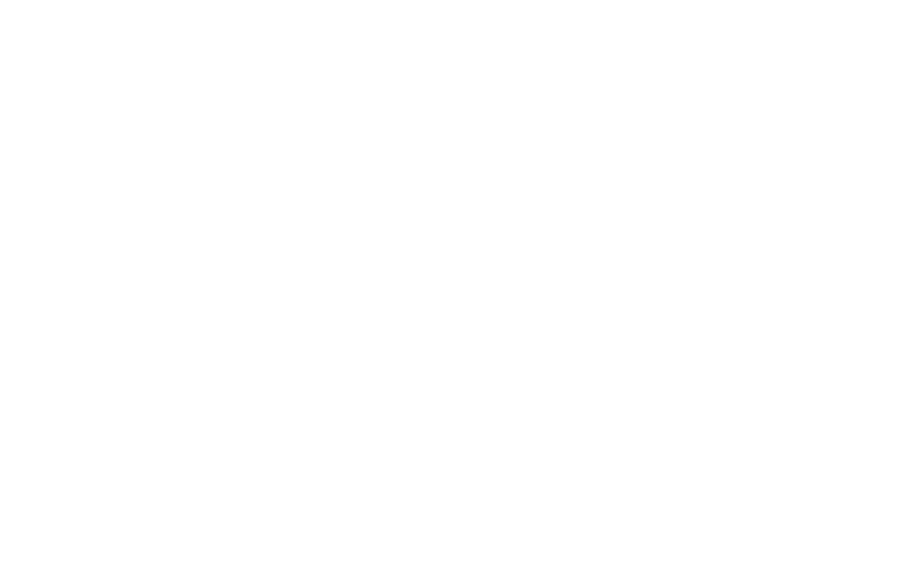
“
«Это была реакция на ту среду, в которой мы тогда находились. А народу нравилась какая-то такая вот достоевщина на детском уровне, пугалка такая, триллер. Я потом очень полюбил писать эти мультипликационные триллеры. Вроде бы не настоящие ужастики, а эдакие глумливые, для 14-летних».
кроме то, что по центру - Игорь Мухин
«РОДИНА» ДДТ - слушатели «Нашего радио» посчитали ее одной из ста лучших песен русского рока в двадцатом веке
Шевчук написал «Родину» в 1989-м, в деревне, где жил с матерью и умирающей бабушкой. Только что прочитал Доктора Живаго и «на коленке» набросал текст. Смысл прост: «Родину любить – не берёзки целовать». Потому и рифма к важному слову «родина» грубая до одури.
“
Для нас синоним любви к Родине – не «селедки-морковки», а очень серьезное, честное отношение к ней. А уродства достаточно. Хотя достаточно и любви.
Ростовский рок-клуб
Существовал с 1986 по начало 1990-х и стал центром местной рок-сцены. Корни рока в Ростове уходят в 1960-е: «Голубые тени», «Неудачники», «Утренняя Роса». В 1969 году на базе отдыха на Левбердоне прошёл фестиваль «Вудсток-на-Дону» с участием четырёх ростовских групп. Официальное формирование клуба началось в 1986 году: первым председателем стал Валерий Посиделов, но вскоре он ушёл в творчество, дальше клуб возглавляли Елена Артикульная и Пётр «Пит» Москвичёв. Возвращение Мирослава Немирова в 1987 году придало клубу новый импульс, связанный с сибирским панком, а открывшаяся «Студия Р» стала важной концертной площадкой для местных и приезжих музыкантов.
Клуб организовывал фестивали и акции: «Рок-марафон», «Рок-707», «Закрытая зона», серию концертов в «Студии Р» с Юрием Наумовым и Майком Науменко. Помимо концертов, клуб поддерживал самиздат и медиа: журналы «Ура Бум-Бум!», «Донский бит», «Рок-Опо» и медиапроект «Иллюзия независимого радио» распространяли идеи и творчество ростовского рока.
Немиров — один из организаторов и вдохновителей так называемого сибирского панка, о котором мы говорим ниже, и сотоварищ арт-группы «Искусство или смерть».
Немиров — один из организаторов и вдохновителей так называемого сибирского панка, о котором мы говорим ниже, и сотоварищ арт-группы «Искусство или смерть».
некоторые представители рок-клуба
- Там! Нет Ничего
- театр менестрелей
- Зазеркалье
Сибирская волна и распад ярлыков
Сибирский панк – не жанр, а сообщество, где отрицали термин «русский рок», но продолжали его традицию – метафизическую, текстоцентричную, бунтарскую, где ярлыки вроде «русский рок» или «панк» – это уже попытки внешнего описания.
Некоторые исследователи описывают метафорой о том, что «сибирский панк» – это не ответвление, а «соль на ране русского рока». То есть явление, которое обострило и довело до предела то, что уже было в самой его природе: протест, поэтичность, трагизм.
Некоторые исследователи описывают метафорой о том, что «сибирский панк» – это не ответвление, а «соль на ране русского рока». То есть явление, которое обострило и довело до предела то, что уже было в самой его природе: протест, поэтичность, трагизм.
Сибирский панк возник в середине 1980-х вокруг Егора Летова и «Гражданской Обороны», к которой примыкали десятки сайд-проектов. Рядом стояли Янка Дягилева, Роман Неумоев с «Инструкцией по выживанию», «Чёрный Лукич», тюменский и новосибирский рок-клубы. По сути формировалась сеть людей, объединённых общим ощущением края, безысходности и внутренней свободы. Сами музыканты не стремились к жанровой систематизации, жили «внутри» опыта, а не «в терминах». При всей внешней анархии Янка или Летов наследуют ту же «смыслоцентричность», что и условный Гребенщиков* или Башлачёв: текст – это ядро, звук – проводник. Здесь уместна мысль о метафизичности: даже отчаянный крик в «Гражданской Обороне» – это всегда «про большее», чем бытовой протест.
Смерть Янки в 1991-м многие называют концом сибирского панка как цельного явления, но его наследие повлияло на музыку по всей стране.
Смерть Янки в 1991-м многие называют концом сибирского панка как цельного явления, но его наследие повлияло на музыку по всей стране.
«Калинов мост»
Сначала песни были про молодость, хиппи и свободу («Сансара», «Вольница»), потом– про историю и судьбу Сибири («Сибирский марш»). В 1987-м группа прогремела на фестивале в Подольске: именно тогда её заметила вся страна. В 90-е «Калинов мост» записал знаковые альбомы «Выворотень», «Дарза», «Узарень». Их стиль — смесь рока, славянского фолка и поэзии с неологизмами, вдохновлённой Хлебниковым.
Дальше были кризисы, расставания, возвращения, но «Калинов мост» выжил и в 2000-е обрёл новый голос. Ревякин обратился к православию и истории, выпустив альбом «Ледяной походъ» – эпос о войне и Белом движении. Позже были «Сердце», «Эсхато», «Даурия» и другие. Сегодня «Калинов мост» – один из пионеров славянского фолк-рока, а Ревякина называют поэтом, который сумел соединить русский рок с мифологией, религией и живым народным языком.
Дальше были кризисы, расставания, возвращения, но «Калинов мост» выжил и в 2000-е обрёл новый голос. Ревякин обратился к православию и истории, выпустив альбом «Ледяной походъ» – эпос о войне и Белом движении. Позже были «Сердце», «Эсхато», «Даурия» и другие. Сегодня «Калинов мост» – один из пионеров славянского фолк-рока, а Ревякина называют поэтом, который сумел соединить русский рок с мифологией, религией и живым народным языком.
Стереотипы и мифы
русского рока
Почвенничество
- В широком смысле почвенничество – это идеологическая и культурная позиция, которая ставит в центр внимание «родную землю», традиции, национальные корни и местную культуру как основу моральных, социальных и художественных ориентиров.
- Ключевые моменты:
- ценность локального над глобальным;
- возврат к «корням» и самобытности;
- критика модернизации и западного влияния как отчуждающего фактора;
- идеализация народа и природы как источника духовности и истины.
- Исторически почвенничество возникло в России в XIX веке как реакция на западничество и служило базой для философских, литературных и педагогических течений, а затем трансформировалось в разные культурные мифы, включая миф о «русском роке».
Это ретроспективный миф 90-х, а не естественная линия русского рока. Этот миф родился в 90-е, когда некоторые музыканты стали обращаться истории, фольклору, корням, славянофильству. Прежде всего, в силу того, что ситуация изменилась: социальная и культурная травма перестройки, поиск идентичности, национальный дискурс – всё это подтолкнуло Кинчева, Шевчука и других к образу «корней». С одной стороны, это дало «русскому року» чёткий символический код, с другой – создало иллюзию, что рок всегда был «почвенническим», что, конечно, не так.
В 80-е их тексты тех же музыкантов куда более космополитичны и экспериментальны. Рок как феномен был более открытым и экспериментальным, не ограничивался русской «душой» или «землёй». Тексты Летова, Цоя, группы «АукцЫон» – это скорее универсальные истории о человеческой свободе, одиночестве, внутреннем протесте, и зачастую они ближе к космосу, к урбанистике, к глобальным проблемам, чем к исконно русской эстетике.
В 80-е их тексты тех же музыкантов куда более космополитичны и экспериментальны. Рок как феномен был более открытым и экспериментальным, не ограничивался русской «душой» или «землёй». Тексты Летова, Цоя, группы «АукцЫон» – это скорее универсальные истории о человеческой свободе, одиночестве, внутреннем протесте, и зачастую они ближе к космосу, к урбанистике, к глобальным проблемам, чем к исконно русской эстетике.
Говнорок
Простите, но этого определения не избежать: образ типичного субкультурного рокера часто вызывает отторжение у «взрослых и культурных» людей, а фестивали и концерты лишь добавляют контекста. Тем не менее, многие поклонники русского рока – абсолютная интеллигенция, тонко понимающая тексты и отсылки.
цитата
«Не зря же говорят, что к Горшку надо приучать с детства»
“
Русский рок ассоциировался с бунтом, грязью и пьянкой. Но «Король и Шут» превратился в культурное достояние, а память о Михаиле Горшенёве теперь чтят на «семейных» фестивалях. Например, семейный рок-фестиваль живой музыки «Наше Лето» прошёл уже в 8-й раз. Моя задача – сломать стереотипы о том, что рок – это обязательно драки, попойки и люди, валяющиеся в грязи
На фестивале под песни «КиШа» дети красят лица аквагримом, поют «Куклу колдуна» и участвуют в конкурсе «панк-семей».
«Плохая музыка, хорошие тексты»
Этот миф, мягко говоря, сильно упрощает. Он строится на стереотипе: «если музыка примитивная – значит, важны тексты». Но как раз эксперименты с саундом показывают, что многие группы опережали своё время. «АукцЫон» с их джаз-роковыми переливами и текстурными наслоениями, «Звуки Му» с авангардной электроникой и театральностью – это не просто «фон для слов», это самостоятельная художественная ценность.
Даже «Кино» в контексте постпанка и новых волн звучит куда сложнее, чем трёхаккордовое клише. Там есть атмосферность, ритмическая точность, драматургия в звуке – и это всё актуально до сих пор.
Миф «плохая музыка – хорошие тексты» работает как упрощённая легенда, удобная для рассказа о «русской душе», но он скрывает творческую смелость и музыкальные новации.
Даже «Кино» в контексте постпанка и новых волн звучит куда сложнее, чем трёхаккордовое клише. Там есть атмосферность, ритмическая точность, драматургия в звуке – и это всё актуально до сих пор.
Миф «плохая музыка – хорошие тексты» работает как упрощённая легенда, удобная для рассказа о «русской душе», но он скрывает творческую смелость и музыкальные новации.
смерть героя
Постмодерн не убил героев – он изменил их форму. В целом – новые кандидаты на роль культурных героев приходят каждый день. Пусть и в мемной, постироничной оболочке.
Смерть физическая же – особенная часть рок-культуры в целом. Здесь смерть – не только биография, но и часть мифа. Она «запечатывает» образ, обрывает старение и компромиссы, превращая музыканта в символ. Так работает и легенда о «Клубе 27»: это не статистика, а культурная рамка – жить быстро, сгореть ярко, остаться вечным.
В России этот миф приобрёл особую силу. Виктор Цой умер в 28 – формально вне «Клуба», но его фигура закреплена тем же механизмом: нет «позднего Цоя», нет компромиссных альбомов, только «чистый знак», универсальный герой. Александр Башлачёв, погибший в 27, стал другим полюсом: малая дискография воспринимается как концентрат, а каждая строка – как пророчество.
Рок-клубы создавали условия этой хрупкости: цензура, бедность, дороги, усталость. Поэтому смерти считывались не как случайность, а как «логика жанра». Позднее рок «одомашнился»: память о Горшенёве или Цое стала семейным ритуалом, а страшное превратилось в язык наследия.
Так смерть в роке одновременно трагедия и механизм памяти: она конструирует миф, но за ним всегда остаётся человек.
Смерть физическая же – особенная часть рок-культуры в целом. Здесь смерть – не только биография, но и часть мифа. Она «запечатывает» образ, обрывает старение и компромиссы, превращая музыканта в символ. Так работает и легенда о «Клубе 27»: это не статистика, а культурная рамка – жить быстро, сгореть ярко, остаться вечным.
В России этот миф приобрёл особую силу. Виктор Цой умер в 28 – формально вне «Клуба», но его фигура закреплена тем же механизмом: нет «позднего Цоя», нет компромиссных альбомов, только «чистый знак», универсальный герой. Александр Башлачёв, погибший в 27, стал другим полюсом: малая дискография воспринимается как концентрат, а каждая строка – как пророчество.
Рок-клубы создавали условия этой хрупкости: цензура, бедность, дороги, усталость. Поэтому смерти считывались не как случайность, а как «логика жанра». Позднее рок «одомашнился»: память о Горшенёве или Цое стала семейным ритуалом, а страшное превратилось в язык наследия.
Так смерть в роке одновременно трагедия и механизм памяти: она конструирует миф, но за ним всегда остаётся человек.
90-е...00-е...
новый рок?
С открытием границ русский рок стал впитывать западное – от брит-попа до поп-рока. «Сплин» выстрелил в конце 90-х с «Выхода нет» и «Орбит без сахара», разогревал The Rolling Stones. «Би-2»* вернулись в Россию и стали культовыми после «Брата-2» с хитом «Полковнику никто не пишет». «Мумий Тролль» Лагутенко придумал слово «рокапопс» и подарил рубежу тысячелетий «Владивосток 2000». Земфира* с дебютным альбомом стала голосом поколения.
Параллельно росли фестивали: «Максидром», «Нашествие», радио Козырева*. В нулевых рок всё больше смешивался с попом, но появлялись новые герои: Lumen, «Animal ДжаZ», а с другой стороны — альт-сцена «Психеи» и [Amatory].
В десятых рок снова стал социальным. «Порнофильмы» поют «Россия для грустных», «Кис-Кис» – о домашнем насилии. Noize MC* и Anacondaz мешают гитары с рэпом. Жанр окончательно размывается, но именно в этом – его живучесть.
Поговорим о нескольких? Например, «Сплин», Lumen, «Animal ДжаZ» и «Пилот». Субъективно, ну а что поделаешь.
Параллельно росли фестивали: «Максидром», «Нашествие», радио Козырева*. В нулевых рок всё больше смешивался с попом, но появлялись новые герои: Lumen, «Animal ДжаZ», а с другой стороны — альт-сцена «Психеи» и [Amatory].
В десятых рок снова стал социальным. «Порнофильмы» поют «Россия для грустных», «Кис-Кис» – о домашнем насилии. Noize MC* и Anacondaz мешают гитары с рэпом. Жанр окончательно размывается, но именно в этом – его живучесть.
Поговорим о нескольких? Например, «Сплин», Lumen, «Animal ДжаZ» и «Пилот». Субъективно, ну а что поделаешь.
Сплин
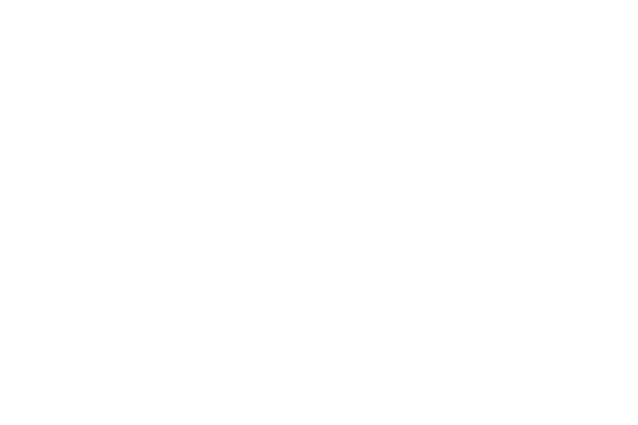
«Сплин» появился в 1994 году в Санкт-Петербурге. Группа выросла из коллектива «Митра», где играл Александр Васильев. Первое выступление «Сплина» состоялось в том же году на фестивале «Там-Там» – культовой питерской площадке, связанной с андеграундом.
Широкая известность пришла в конце 1990-х благодаря альбомам «Пыльная быль» (1996) и «Фонарь под глазом» (1997), а настоящий прорыв случился с альбомом «Гранатовый альбом» (1998) и песней «Выхода нет».
С родоначальниками (Цой, Летов, Башлачёв) «Сплин» связывает текстоцентричность. Шнуров, например, делает ставку на образ и провокацию, а «Сплин» остаётся в линии «слово важнее гитары».
Широкая известность пришла в конце 1990-х благодаря альбомам «Пыльная быль» (1996) и «Фонарь под глазом» (1997), а настоящий прорыв случился с альбомом «Гранатовый альбом» (1998) и песней «Выхода нет».
С родоначальниками (Цой, Летов, Башлачёв) «Сплин» связывает текстоцентричность. Шнуров, например, делает ставку на образ и провокацию, а «Сплин» остаётся в линии «слово важнее гитары».
В этом смысле они ближе к традиции русской поэзии в роке. Но по ценностям «Сплин» отстраняется от «русского рока» 80-х. Нет той героической оптики (борьба с системой, «перемен требуют наши сердца»), нет панковской саморазрушительности. Вместо этого — экзистенциальная лирика, одиночество, текучая грусть. Если для русского рока смерть была жестом судьбы и бунта (Цой, Башлачёв, Янка), то у Васильева это внутренняя медитация, разговор о жизни и её бессмысленности — без мифа о героическом финале. В 90-е «Сплин» оказался альтернативой «сибирскому панку» и «нашистскому року»: там был пафос, а у Васильева — тихая депрессия и внутренний космос. Это и есть его ценностная ниша: не протест, не разрыв, а внутренний отказ. Можно сказать так: если Цой и Летов задавали поколению горизонт «что делать?», то «Сплин» — это уже музыка о «как жить дальше, когда ничего не понятно».
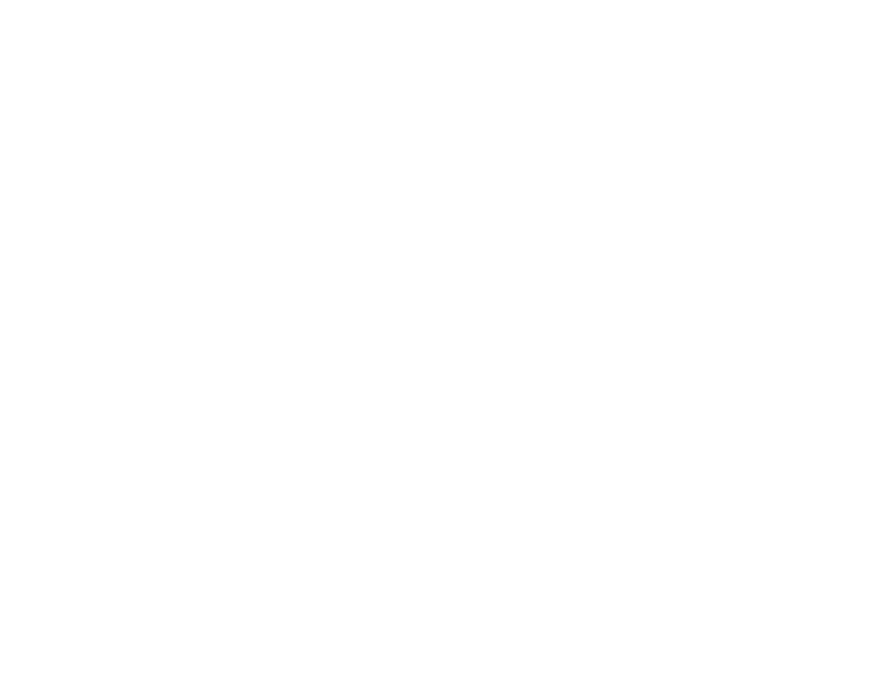
“
В конце клипа на «Выхода нет» лидер «Сплина» Александр Васильев, одетый в черное пальто до пят и белую водолазку, сводит счеты с жизнью — обречённо падает в холодную воду на окраине Петербурга. Смертельный финал в ролике на самую депрессивную песню группы напрашивался сам собой и по всем законам жанра был неизбежен. Если бы не одно но: взятое напрокат в «Мосфильме» английское пальто, скроенное по старым лекалам, никак не уходило под воду. Отдав должное смелости артиста, сиганувшего ради дела в студеную гладь, директор группы решает не использовать фрагменты с неудавшимся самоубийством, а закончить все заходом солнца.
Рэп, новая волна и культурный герой
Рок в 80–90-е был не только музыкой, но способом интерпретировать реальность – от «Гражданской Обороны» до «АукцЫона» и «Агаты Кристи». Рэп сегодня отчасти взял на себя эту функцию: говорить от первого лица, прямо, «улично», иногда на пределе. Говорят, мол, рок проиграл рэпу. Но, кажется, музыканты обращаются к рок-эстетике в поисках глубины и символического веса: так, Post Malone выходит с гитарой, Хаски пишет рок-песни, Pharaoh сэмплирует гранж. Границы жанров стираются, и появляется запрос на нового культурного героя – цельного, бескомпромиссного, магнетического.
“
Будущее принадлежит тому, кто владеет монополией на интерпретацию настоящего.
Сегодня эта монополия свободна.
А ведь рэп в чистом виде – ритм и текст, в то время как рок как раз давал образ героя. Летов, Цой, Башлачёв – не просто исполнители, а фигуры, вокруг которых выстраивался мир. Осмелимся предположить, что рэп-сцена пока ещё не родила подобного «культурного вождя», скорее коллекцию ярких персонажей. Но доподлинно мы узнаем об этом через некоторое количество лет.
И вот тут как раз и работает цитата Кормильцева: кто сумеет сегодня интерпретировать настоящее – не с позиции «тренда», а с позиции «смысла» – тот станет новым центром притяжения. И неважно, будет ли это рок, рэп или гибрид жанров. То есть рок не «проиграл» – он растворился, стал языком, которым пользуются другие жанры, чтобы усиливать себя. Но культурный вакуум героя остаётся.
А ведь рэп в чистом виде – ритм и текст, в то время как рок как раз давал образ героя. Летов, Цой, Башлачёв – не просто исполнители, а фигуры, вокруг которых выстраивался мир. Осмелимся предположить, что рэп-сцена пока ещё не родила подобного «культурного вождя», скорее коллекцию ярких персонажей. Но доподлинно мы узнаем об этом через некоторое количество лет.
И вот тут как раз и работает цитата Кормильцева: кто сумеет сегодня интерпретировать настоящее – не с позиции «тренда», а с позиции «смысла» – тот станет новым центром притяжения. И неважно, будет ли это рок, рэп или гибрид жанров. То есть рок не «проиграл» – он растворился, стал языком, которым пользуются другие жанры, чтобы усиливать себя. Но культурный вакуум героя остаётся.
Русский рок – это не стиль и не эпоха. Это способ говорить о вечном на своём языке. Если поп-музыка девяностых уже прошла путь от стыда к новой моде, рок ждёт своей очереди. Смерть жанра – не конец, а шанс на перезапуск мифа. Впрочем, оговоримся, что жив жанр для тех, кто по-прежнему находит что-то новое, кто слушает и слышит, а если есть новое для слушателя, значит, в каком-то смысле оно живет. С учетом переосмысления ценностей, узнавания, возраста, старое воспринимается по-новому, но прошлое – не забывается.
Мы решили составить плейлист и поняли, что абсолютно не укладываемся во временные рамки. Он мог бы быть фундаментальным, включающим главное от и до, но почему-то вышло иначе. Может быть, как раз потому что живо? И даже всё ещё болит.
Мы решили составить плейлист и поняли, что абсолютно не укладываемся во временные рамки. Он мог бы быть фундаментальным, включающим главное от и до, но почему-то вышло иначе. Может быть, как раз потому что живо? И даже всё ещё болит.
после чЁрно-белых дней - начнётся и кончится весна
Редакция канала [Новый Русский // Культурный Код]
Обращаем ваше внимание: все лица, обозначенные символом «*» по решению Минюста признаны иноагентами.
Обращаем ваше внимание: все лица, обозначенные символом «*» по решению Минюста признаны иноагентами.
ВОЗМОЖНО, ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ:
- Купить усадьбу: мечта и реальность
- Три способа стать владельцем усадьбы в России
- "Хочу купить усадьбу" - интервью с Вадимом Разумовым и Екатериной Григорьевой
Больше новостей в канале "НОВЫЙ РУССКИЙ"
