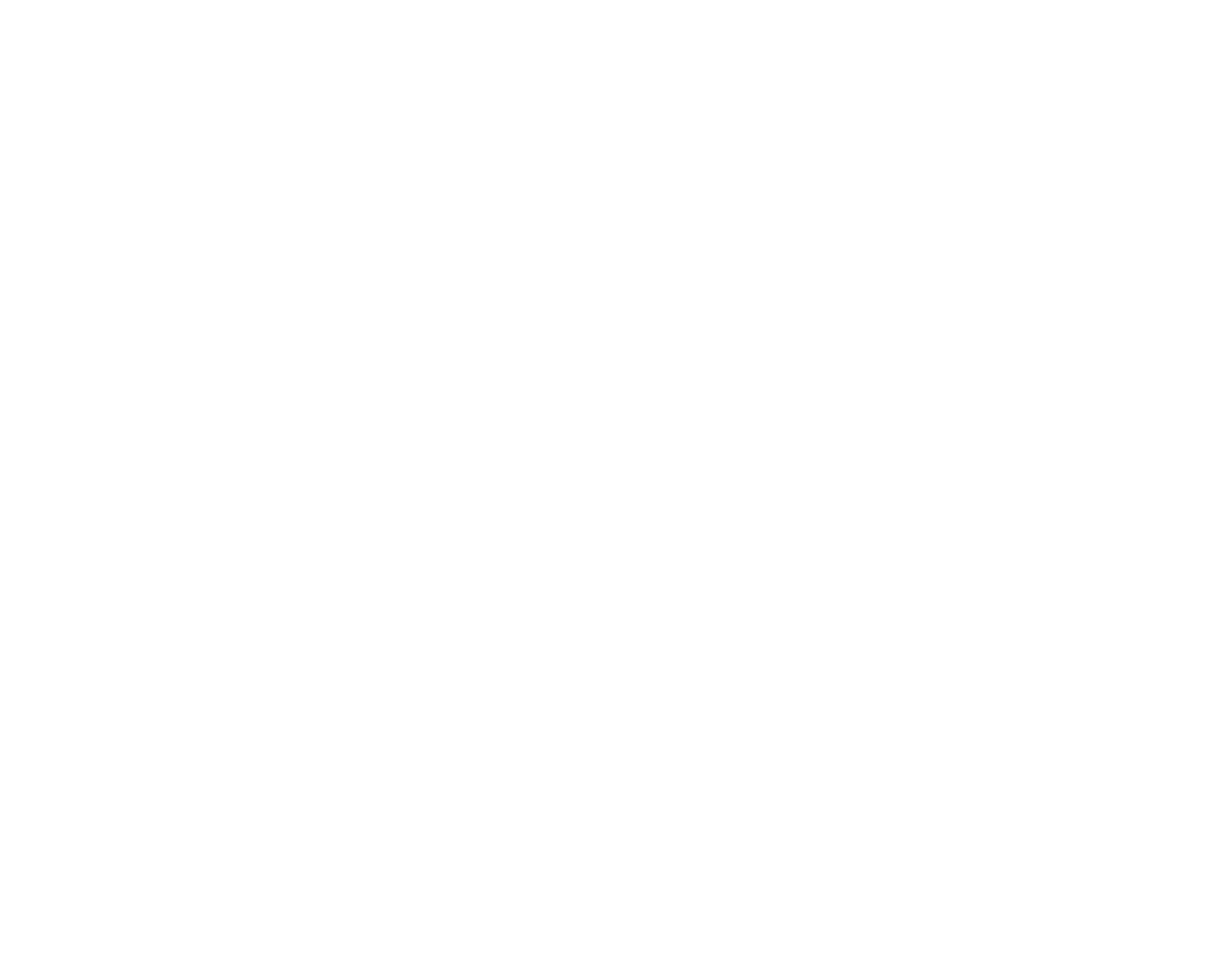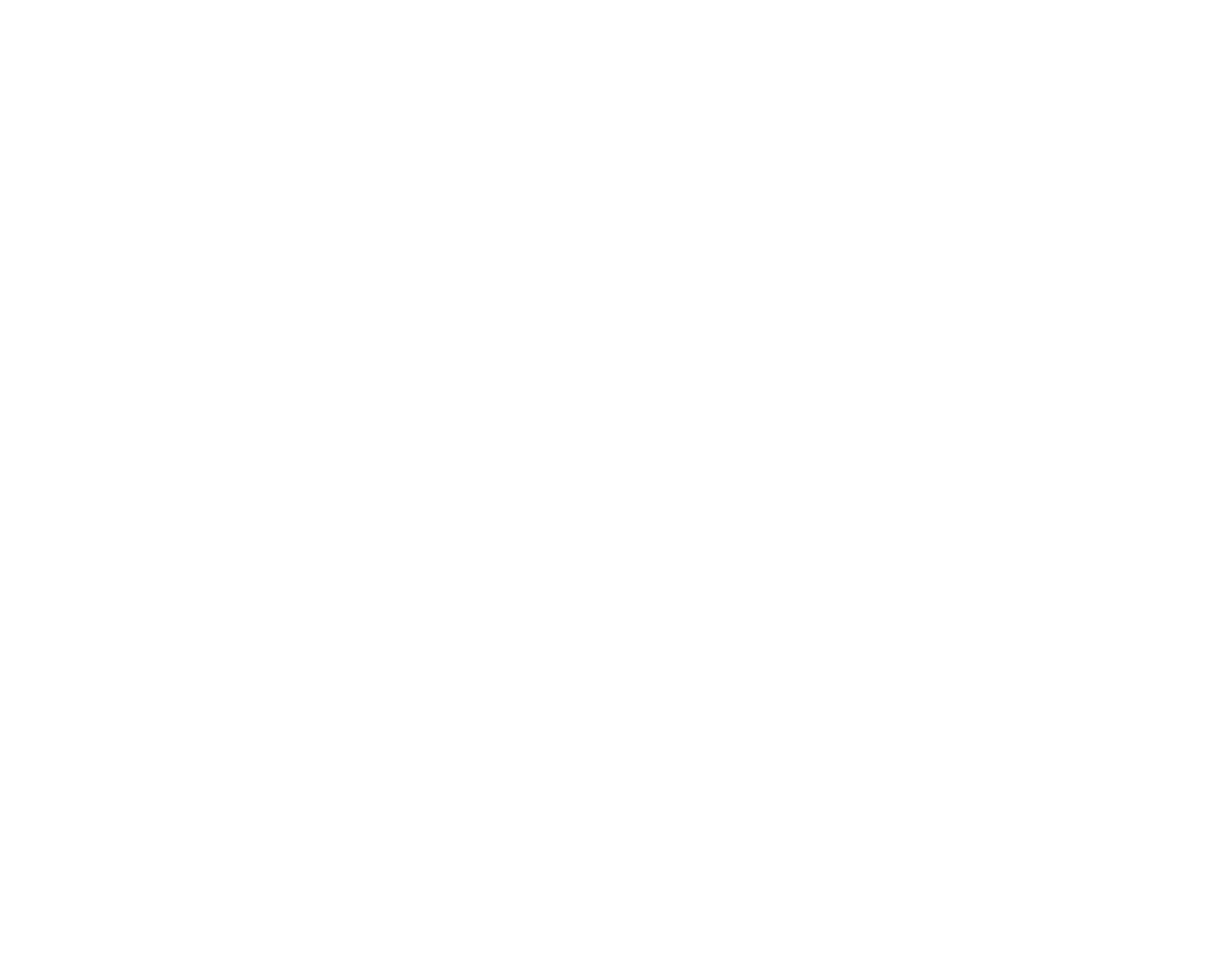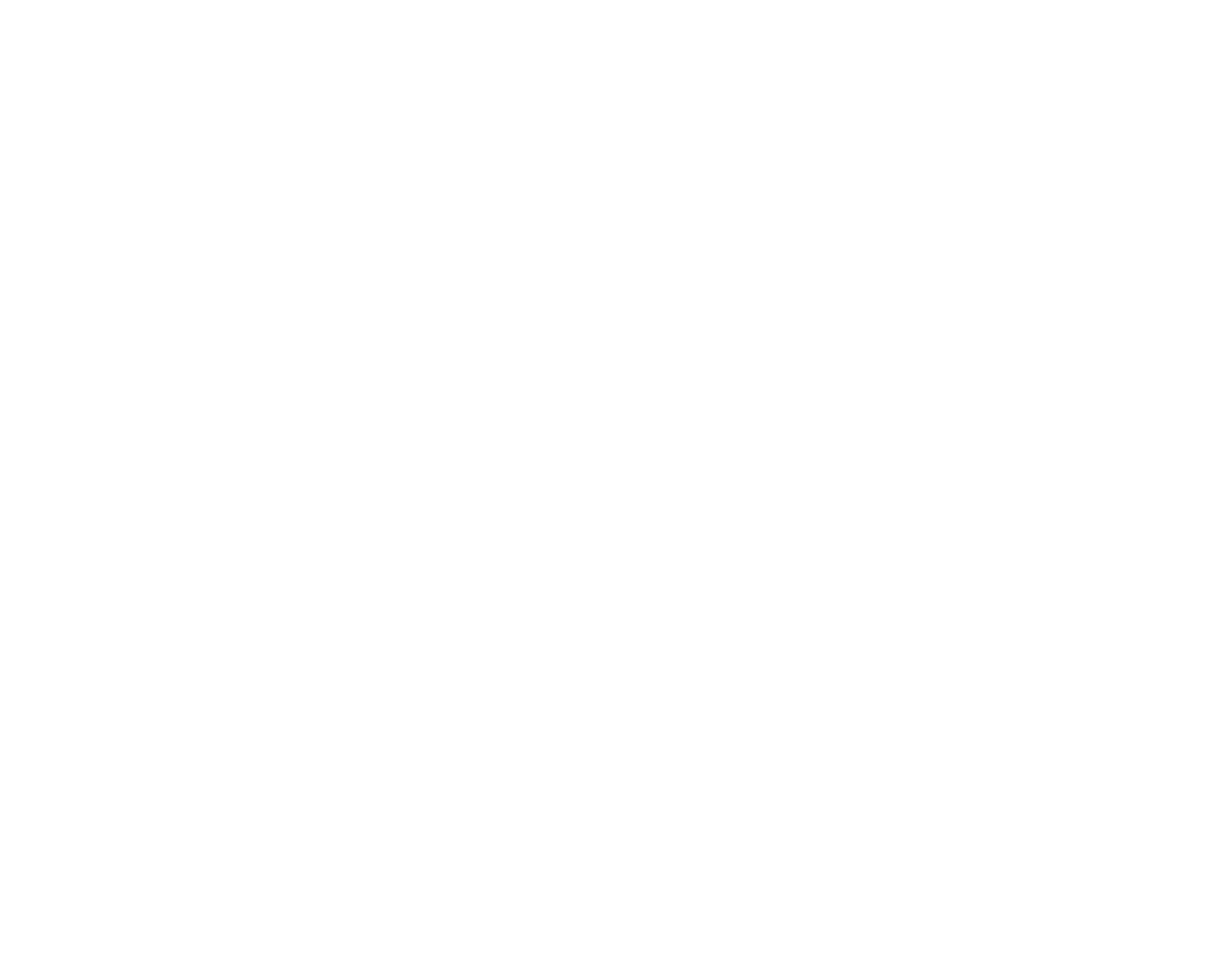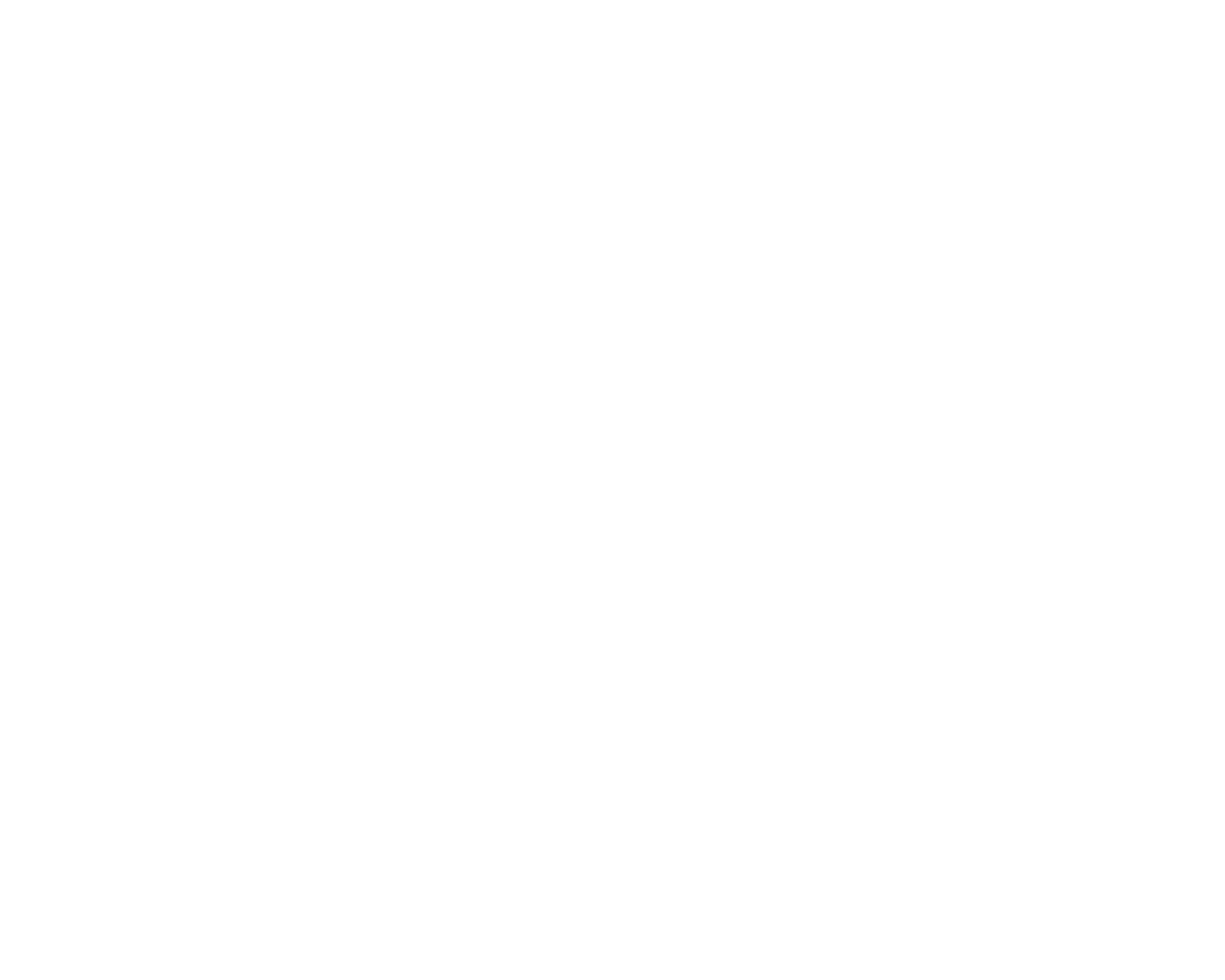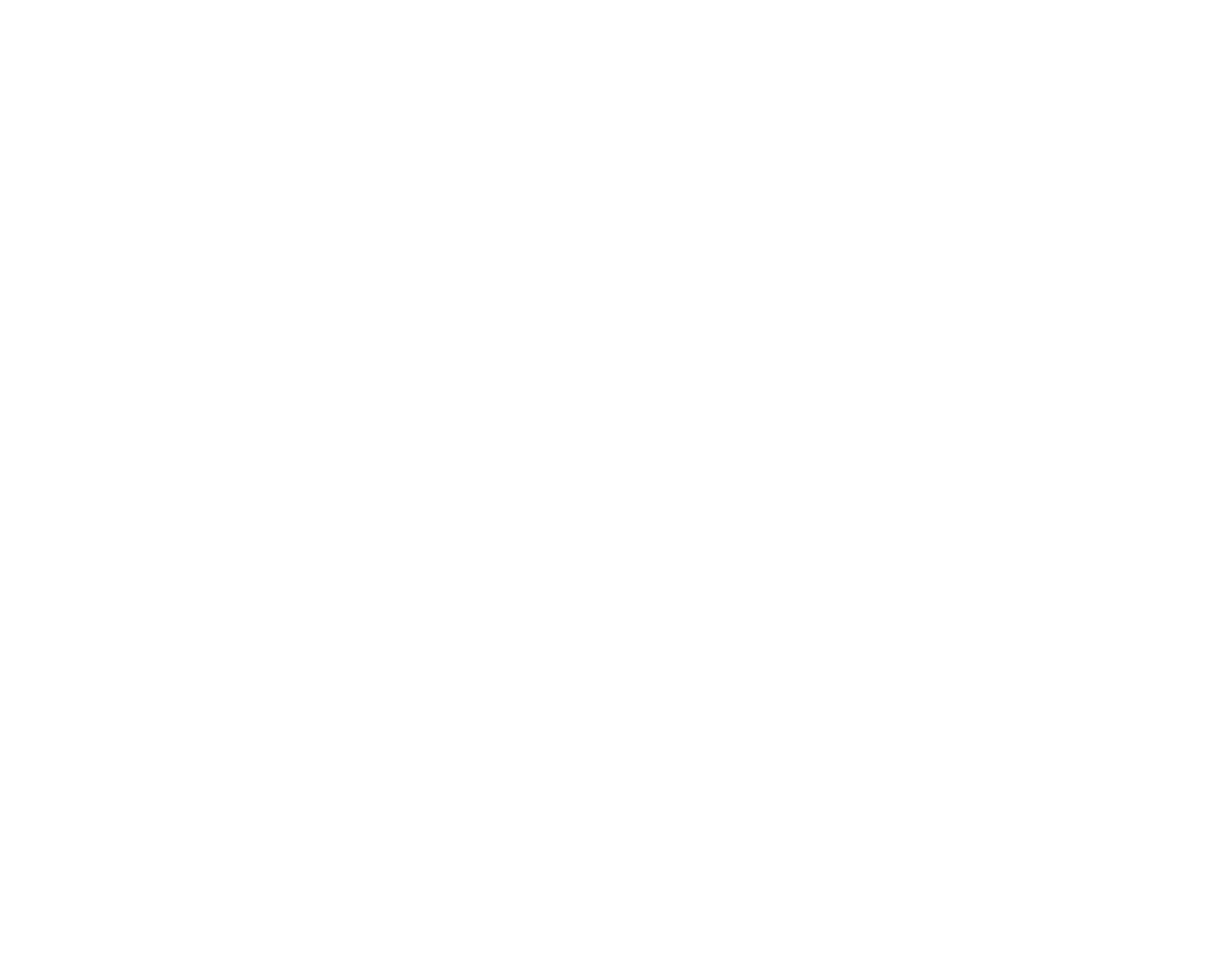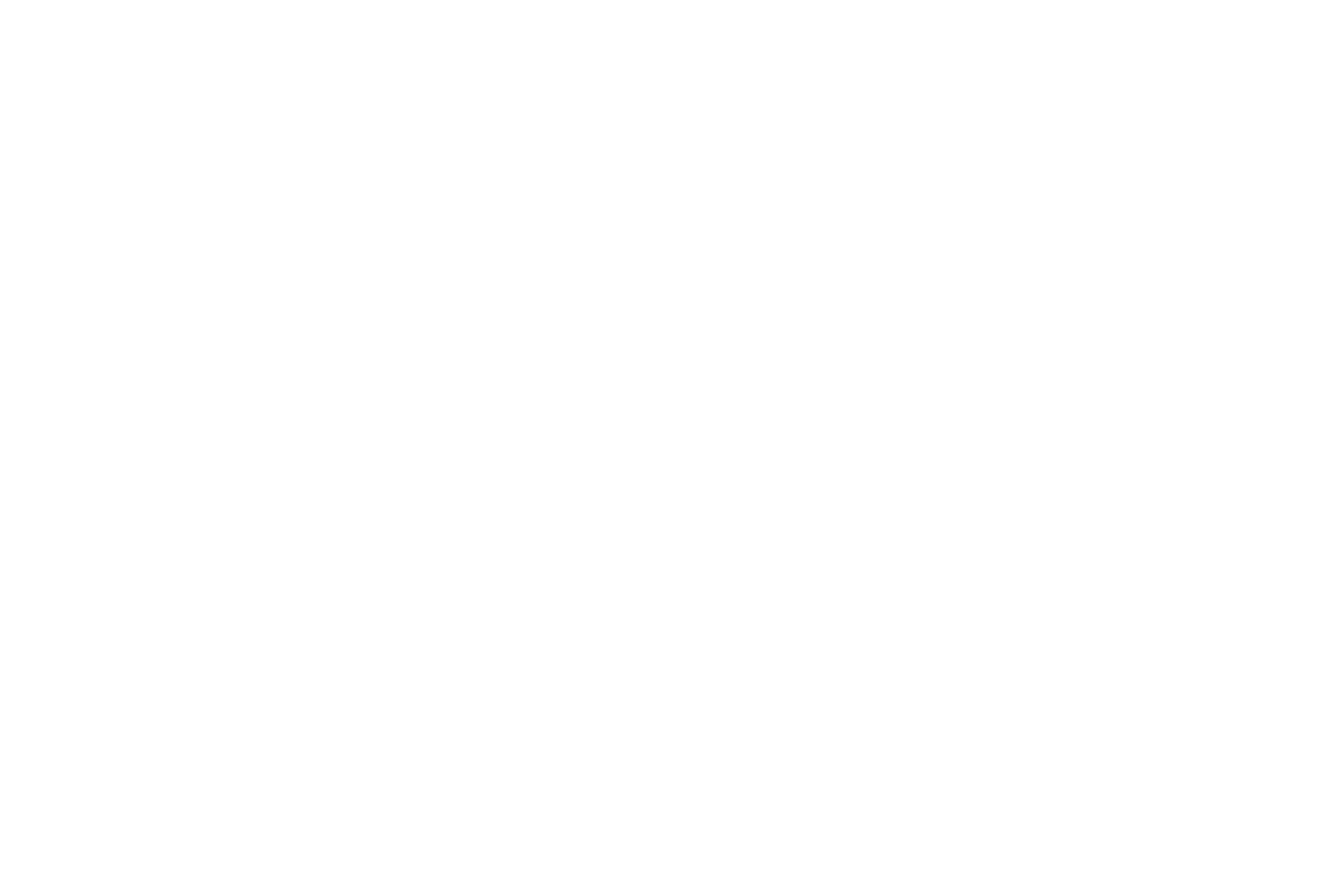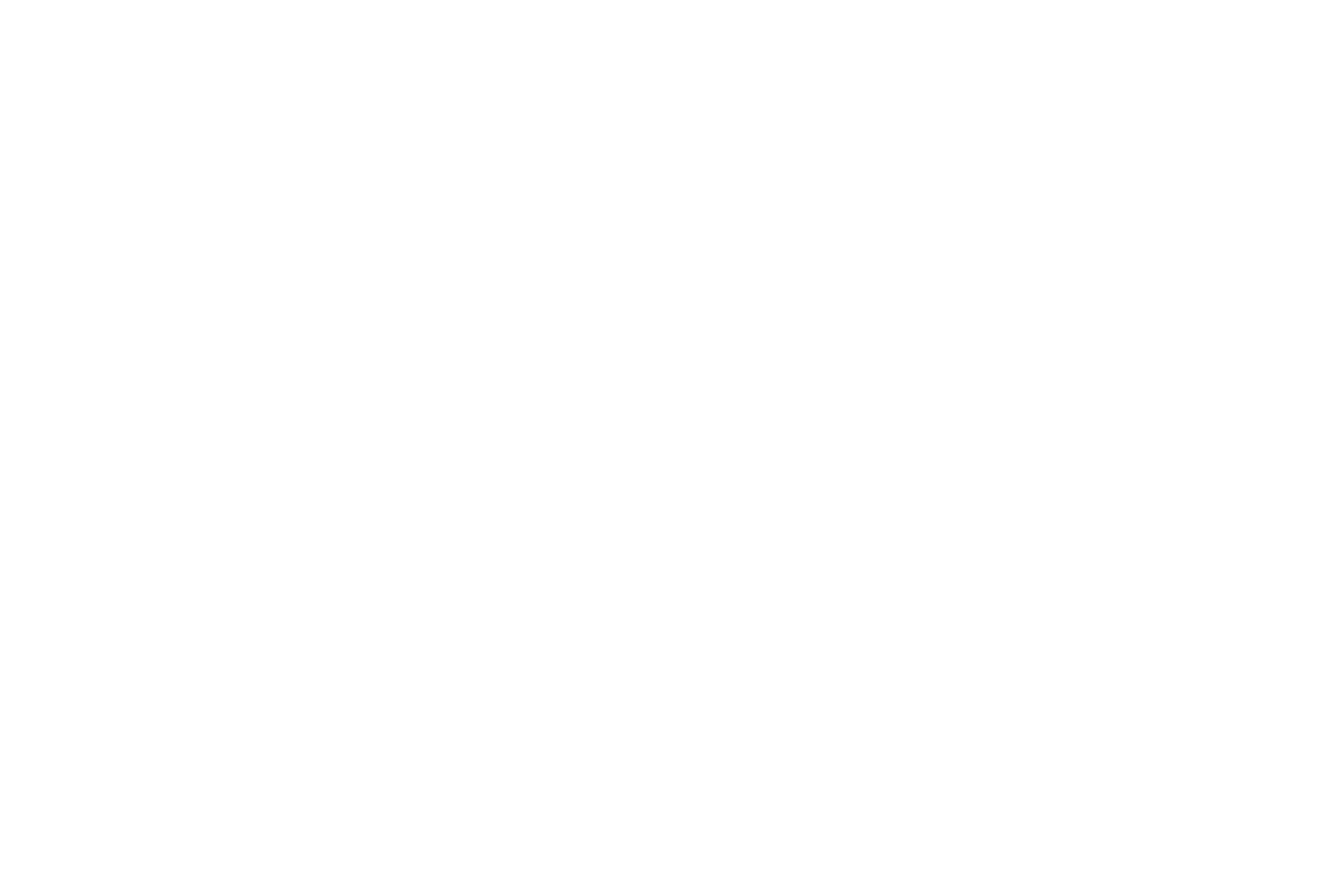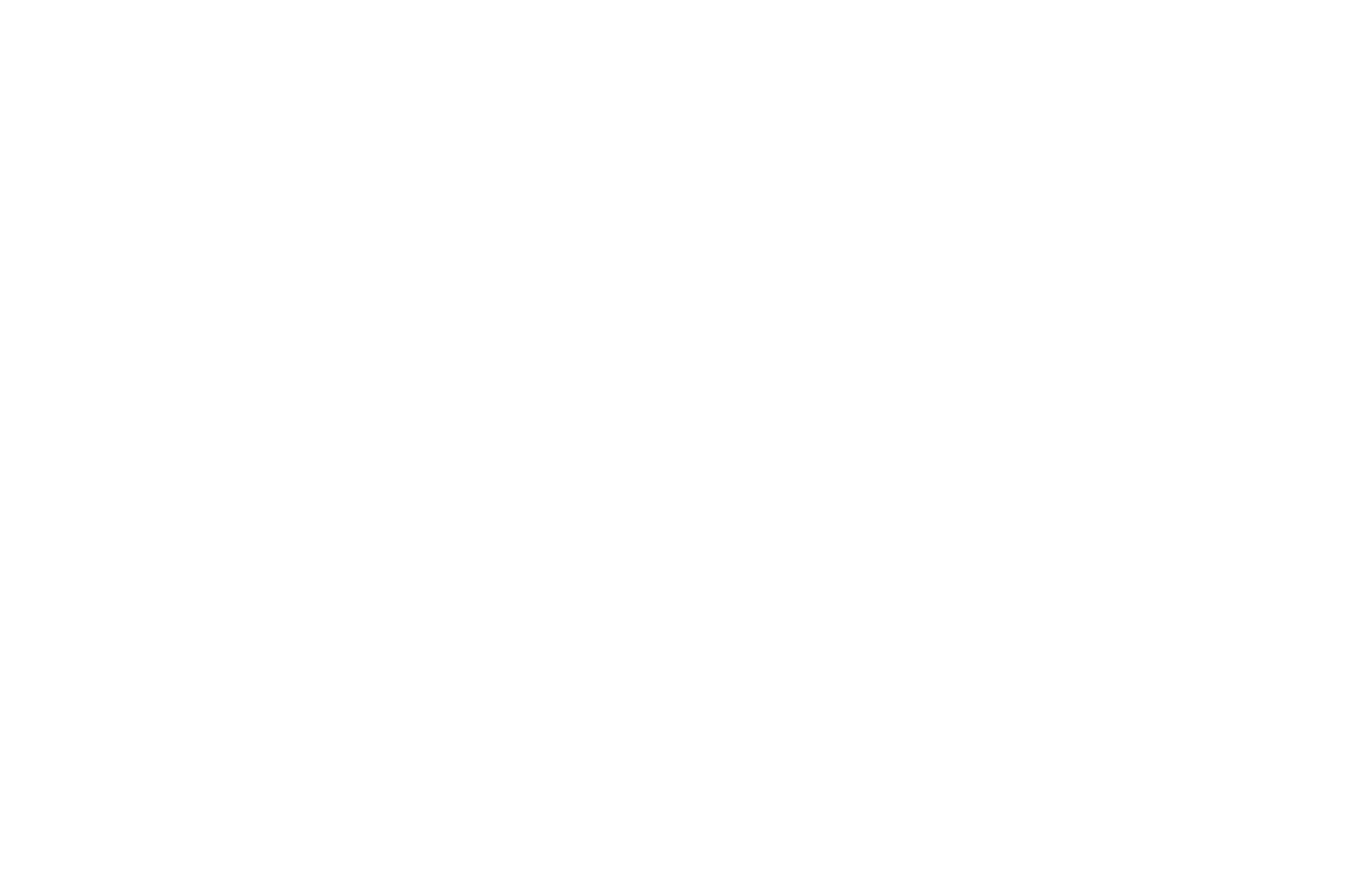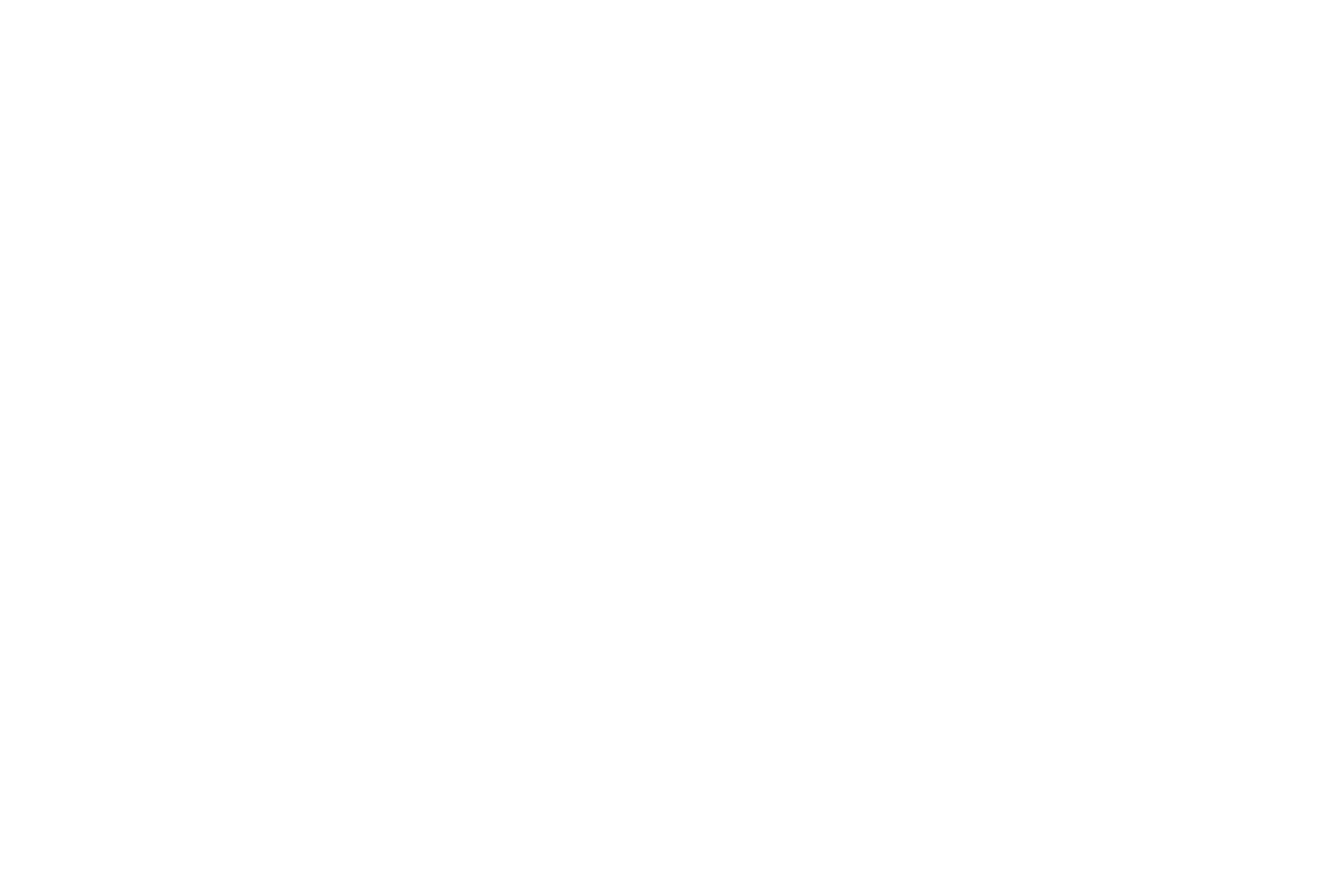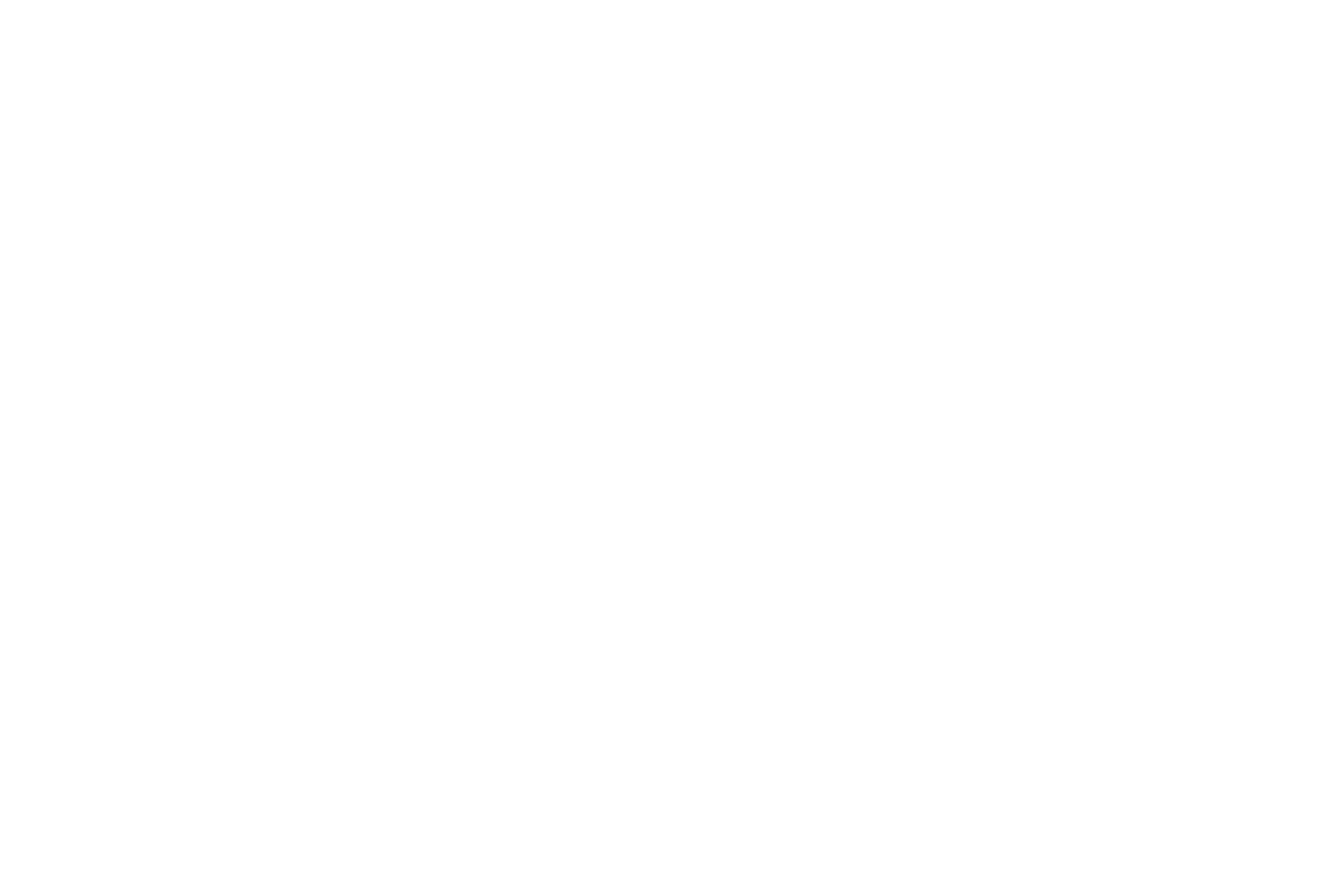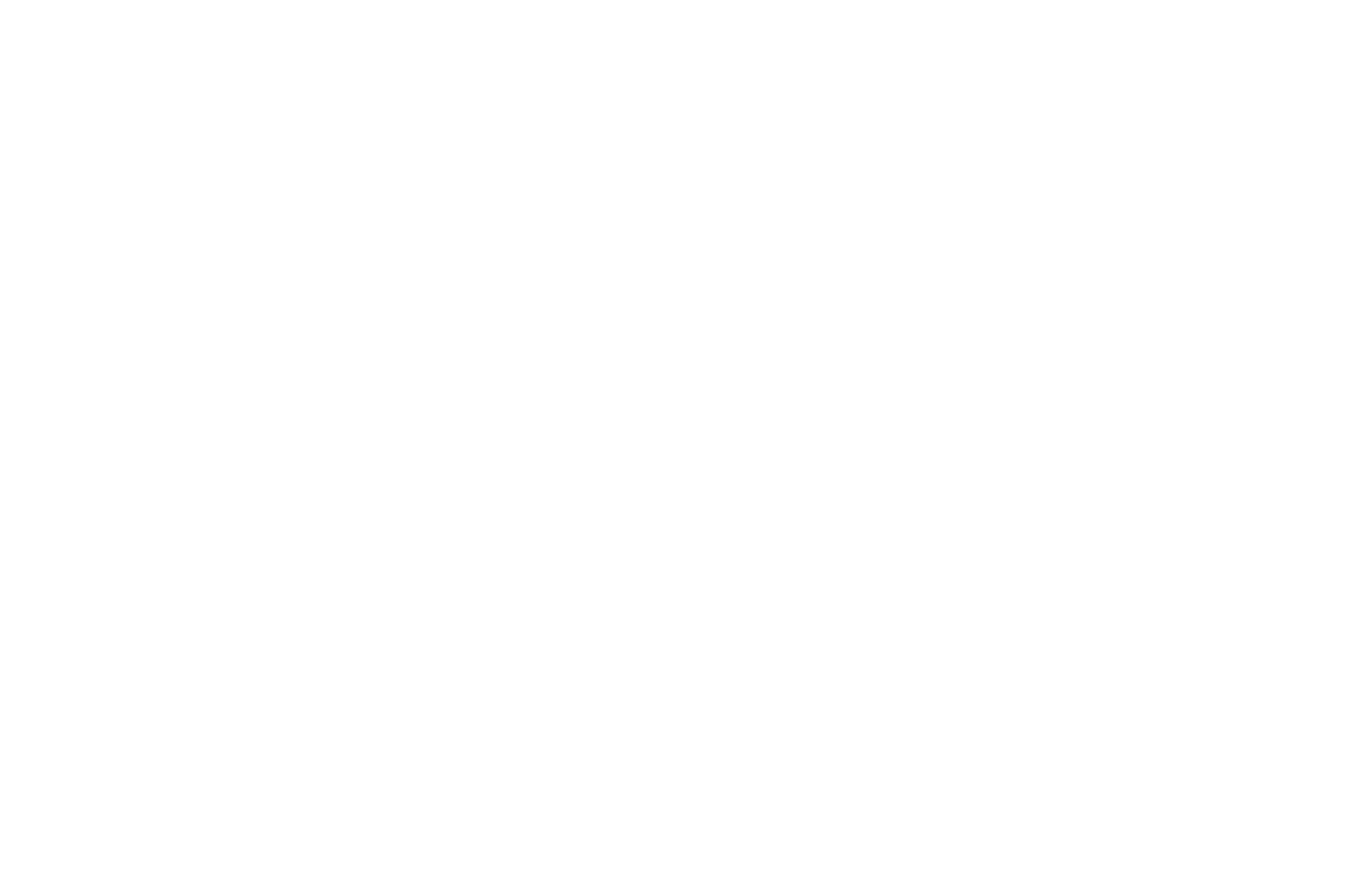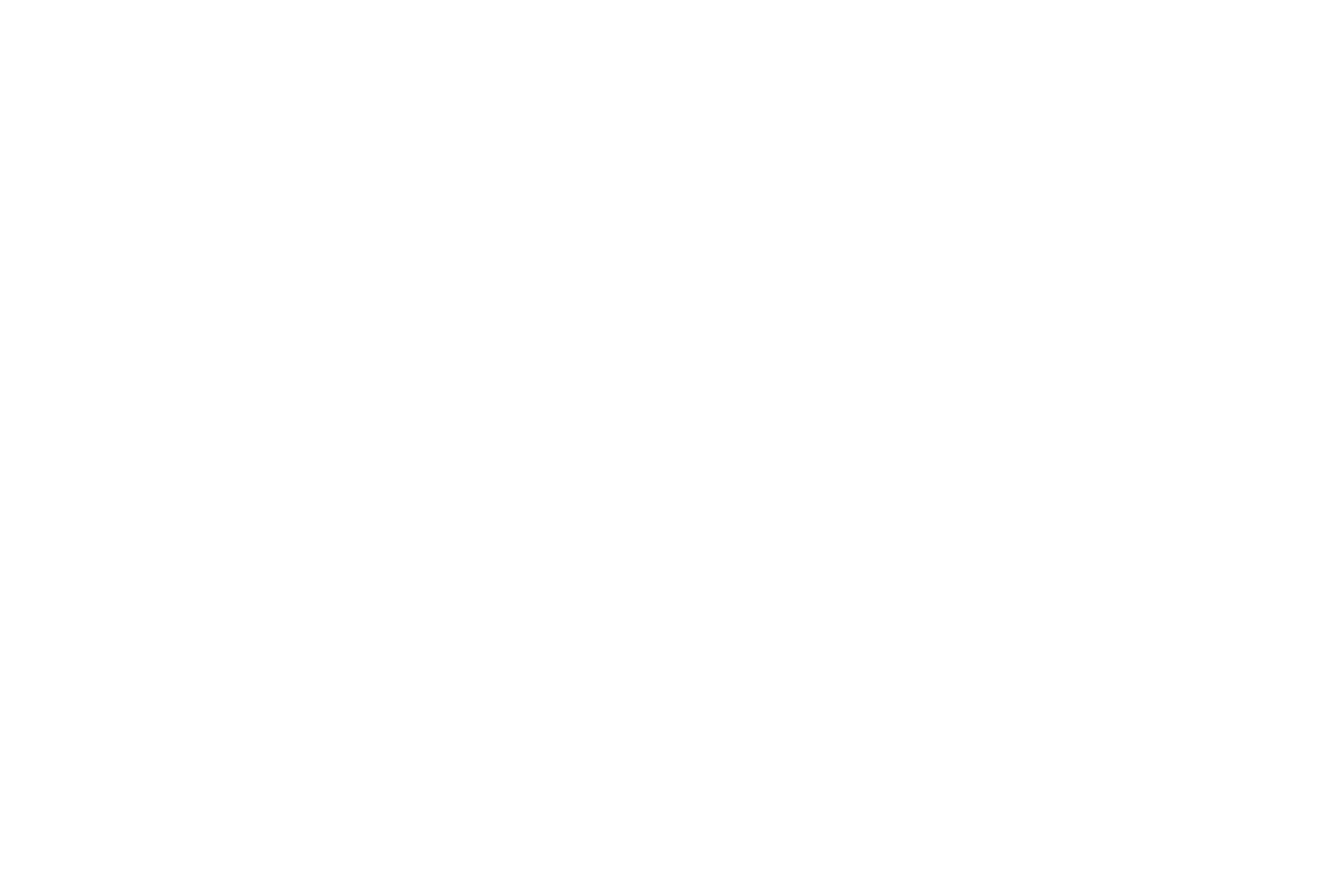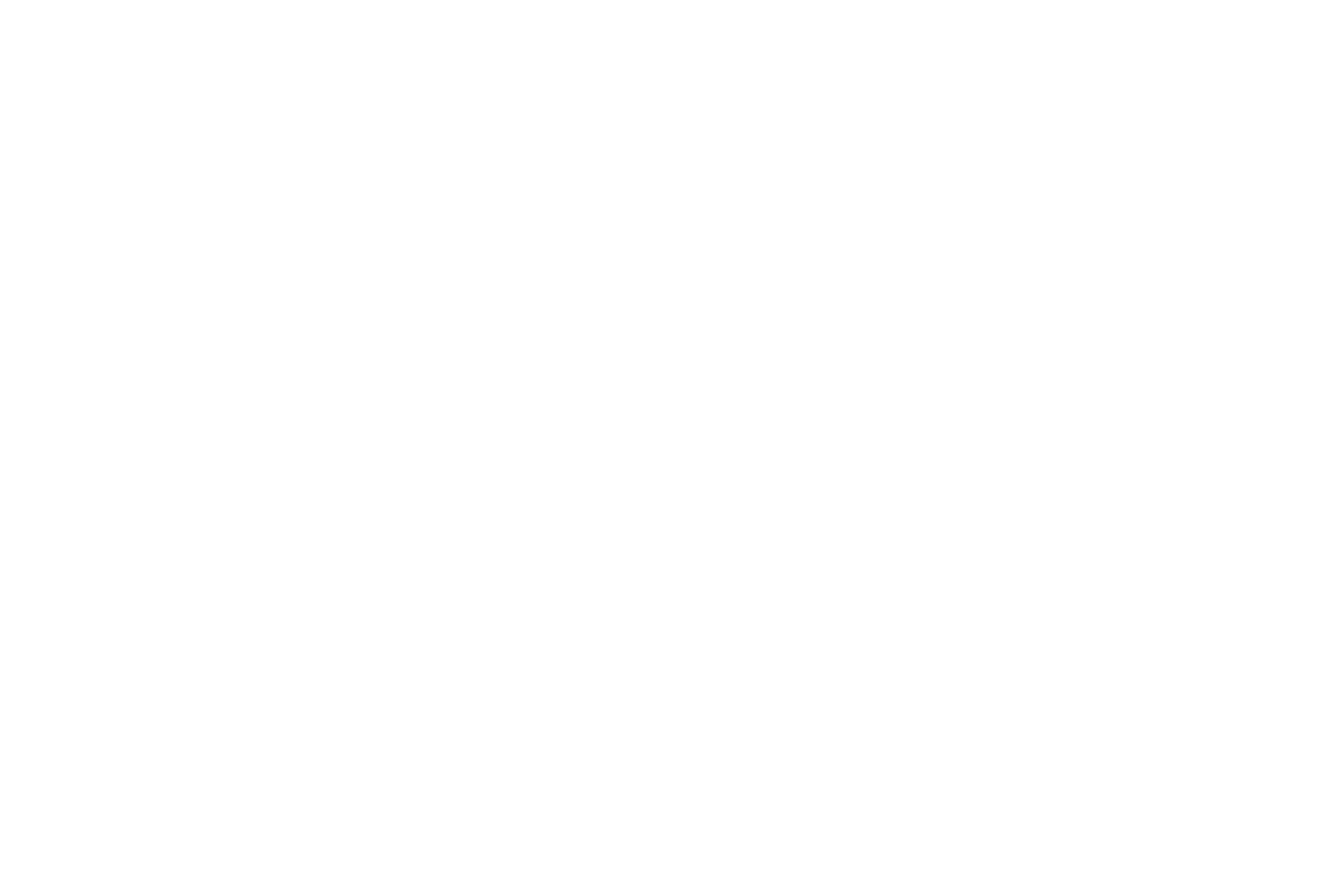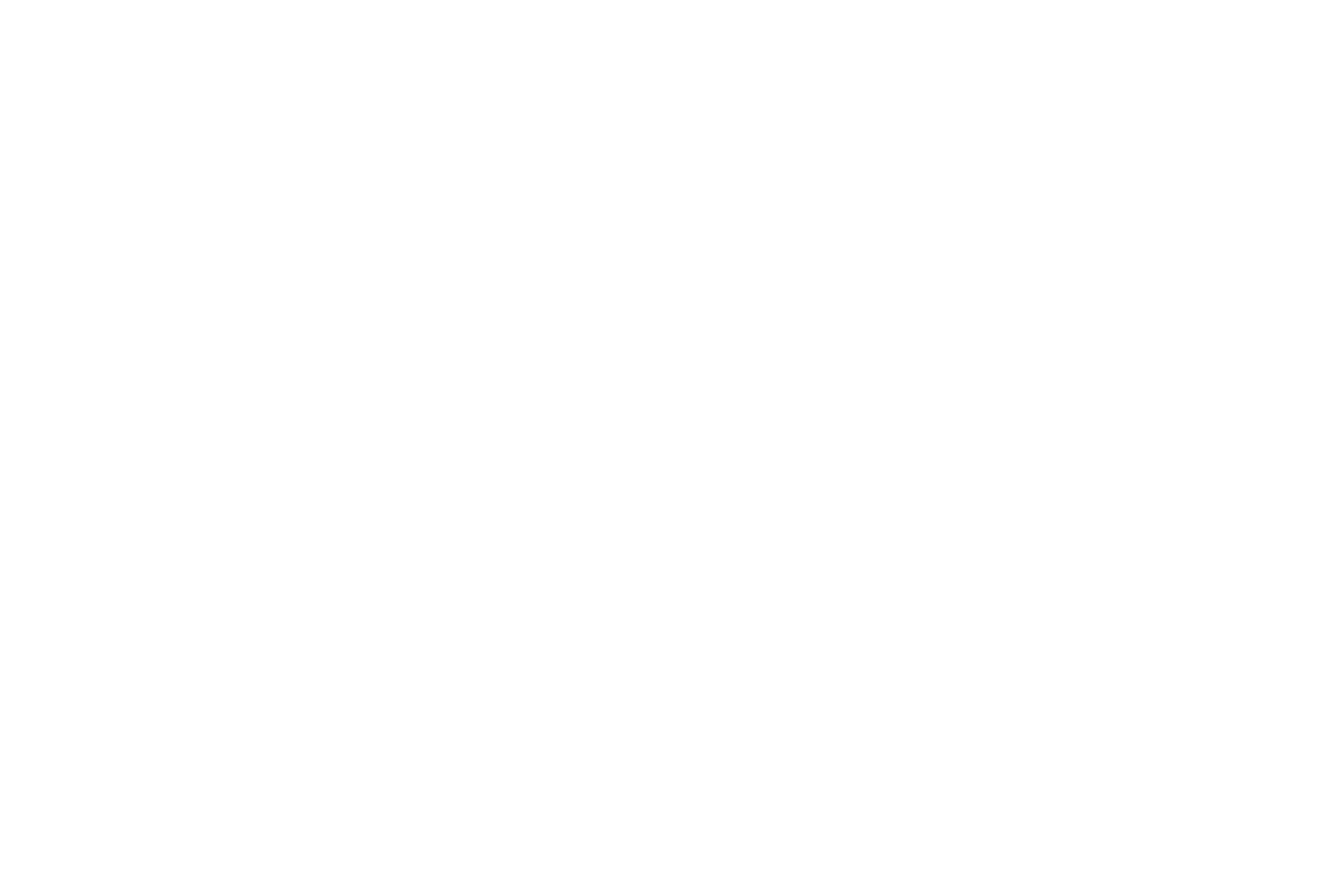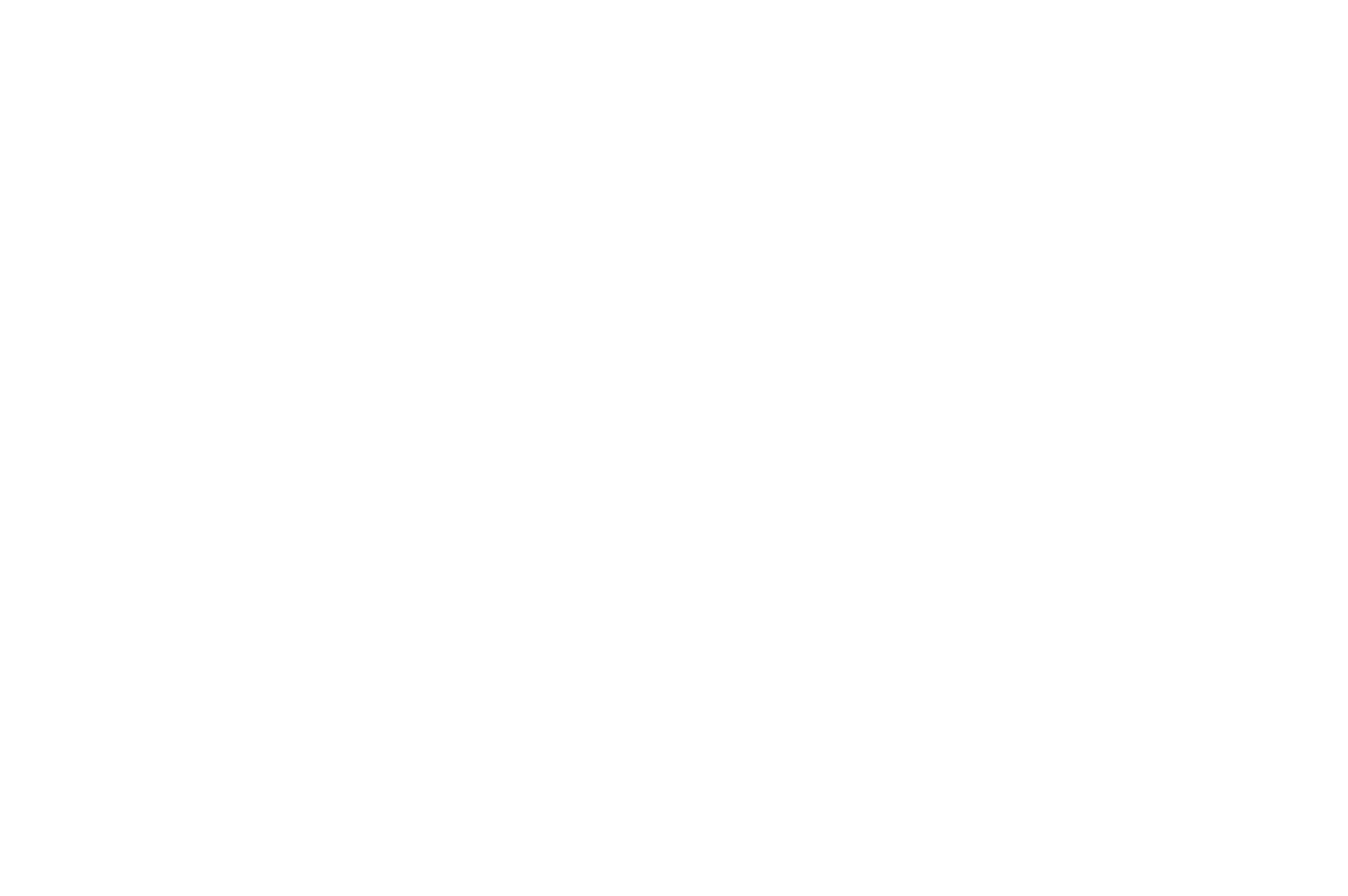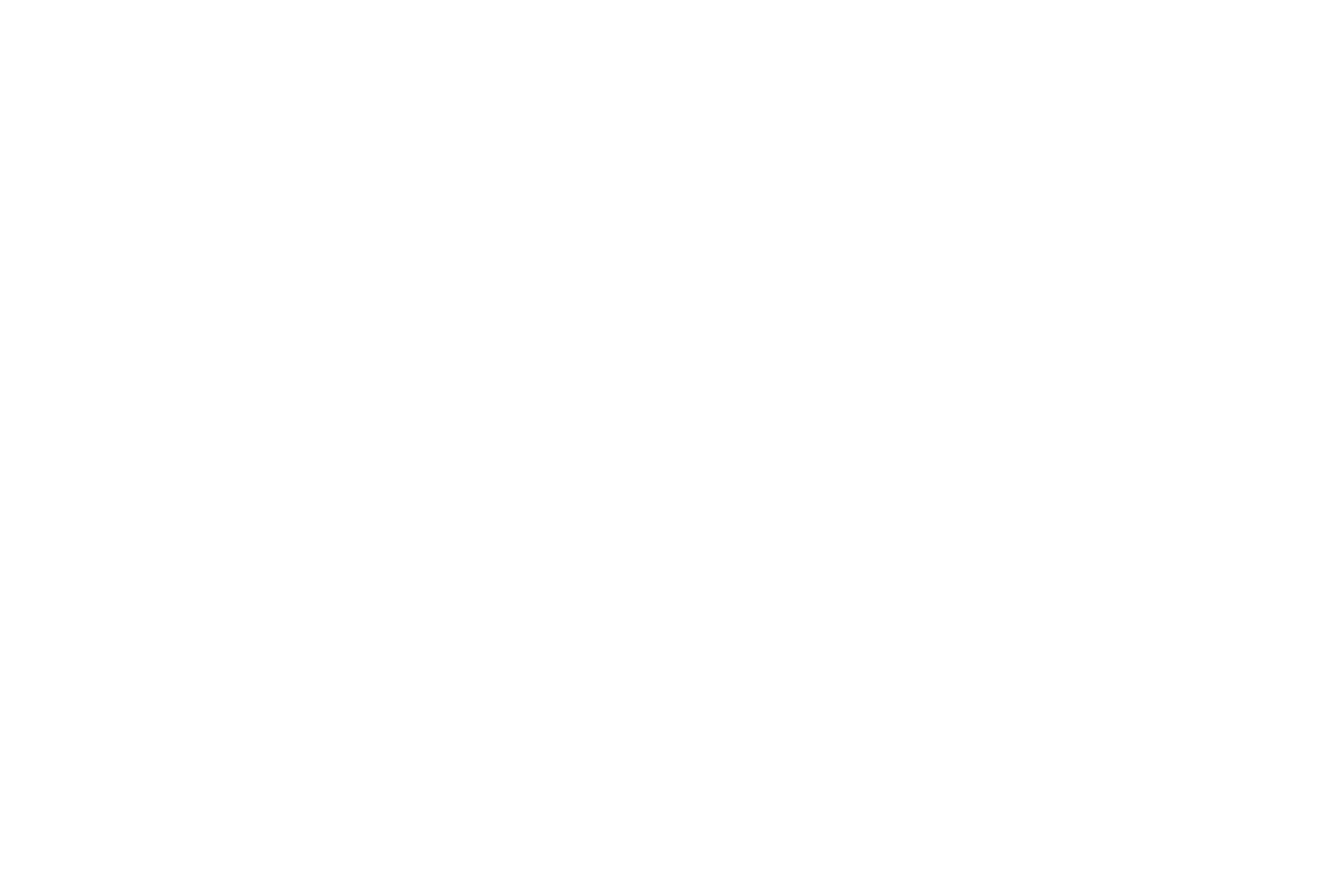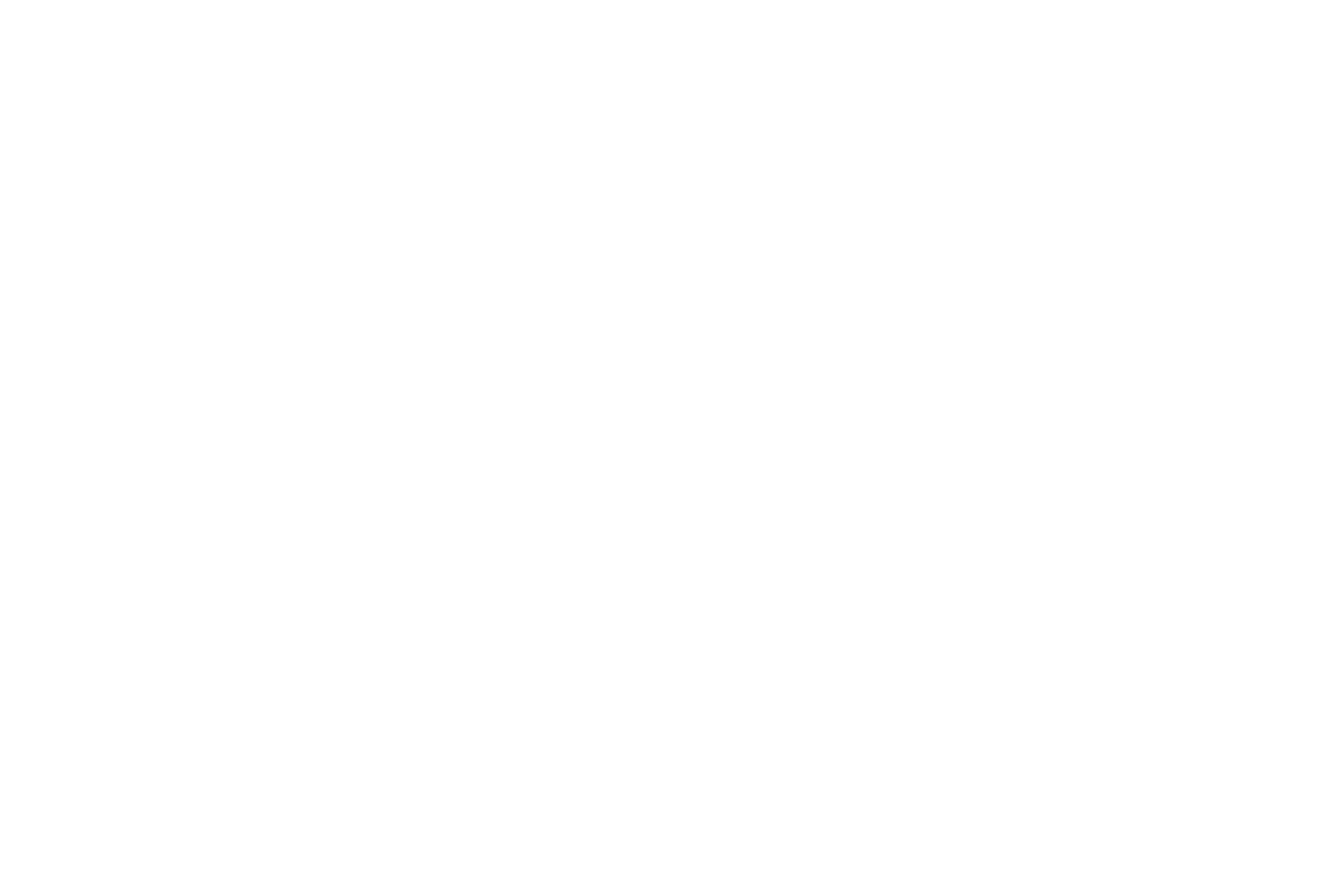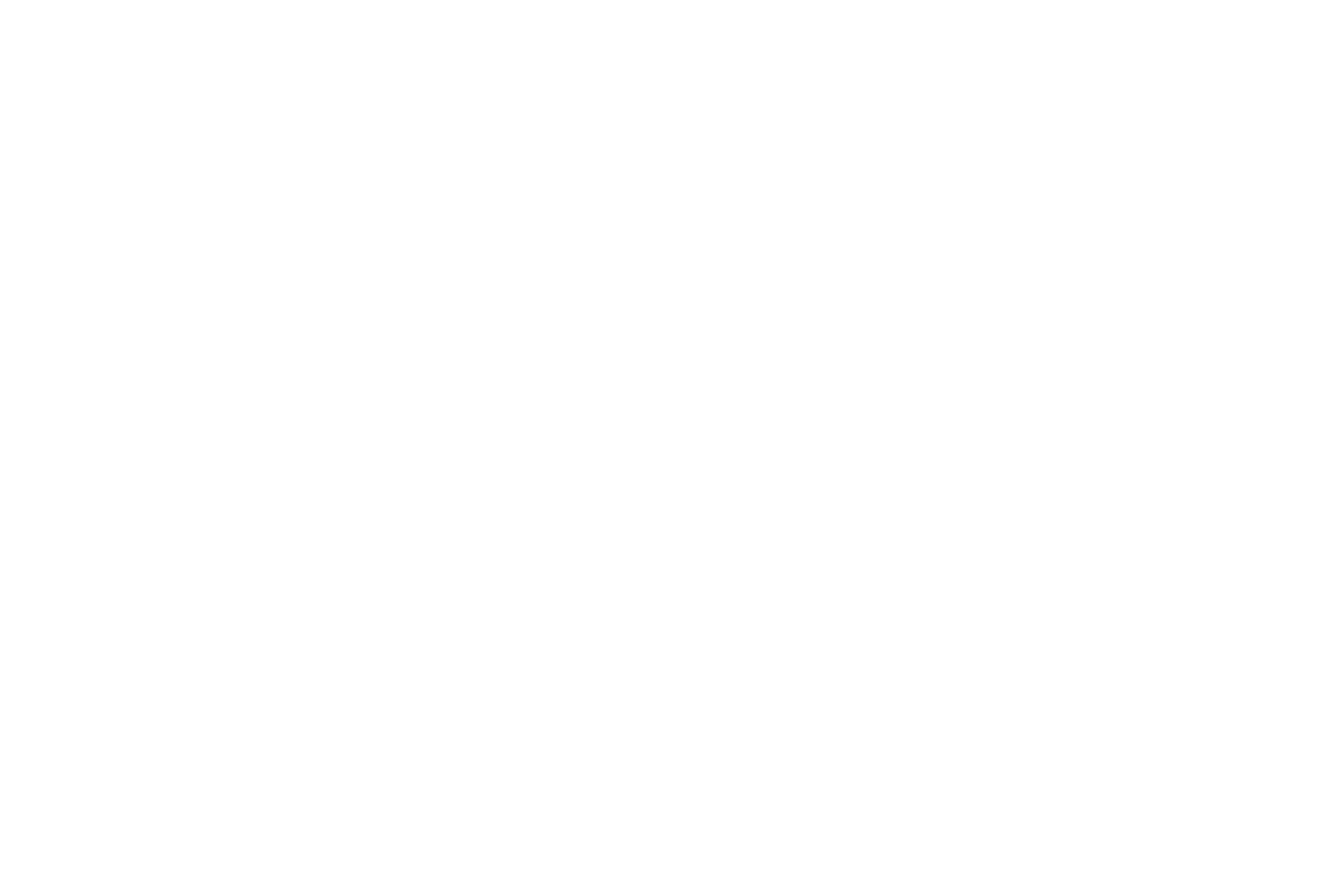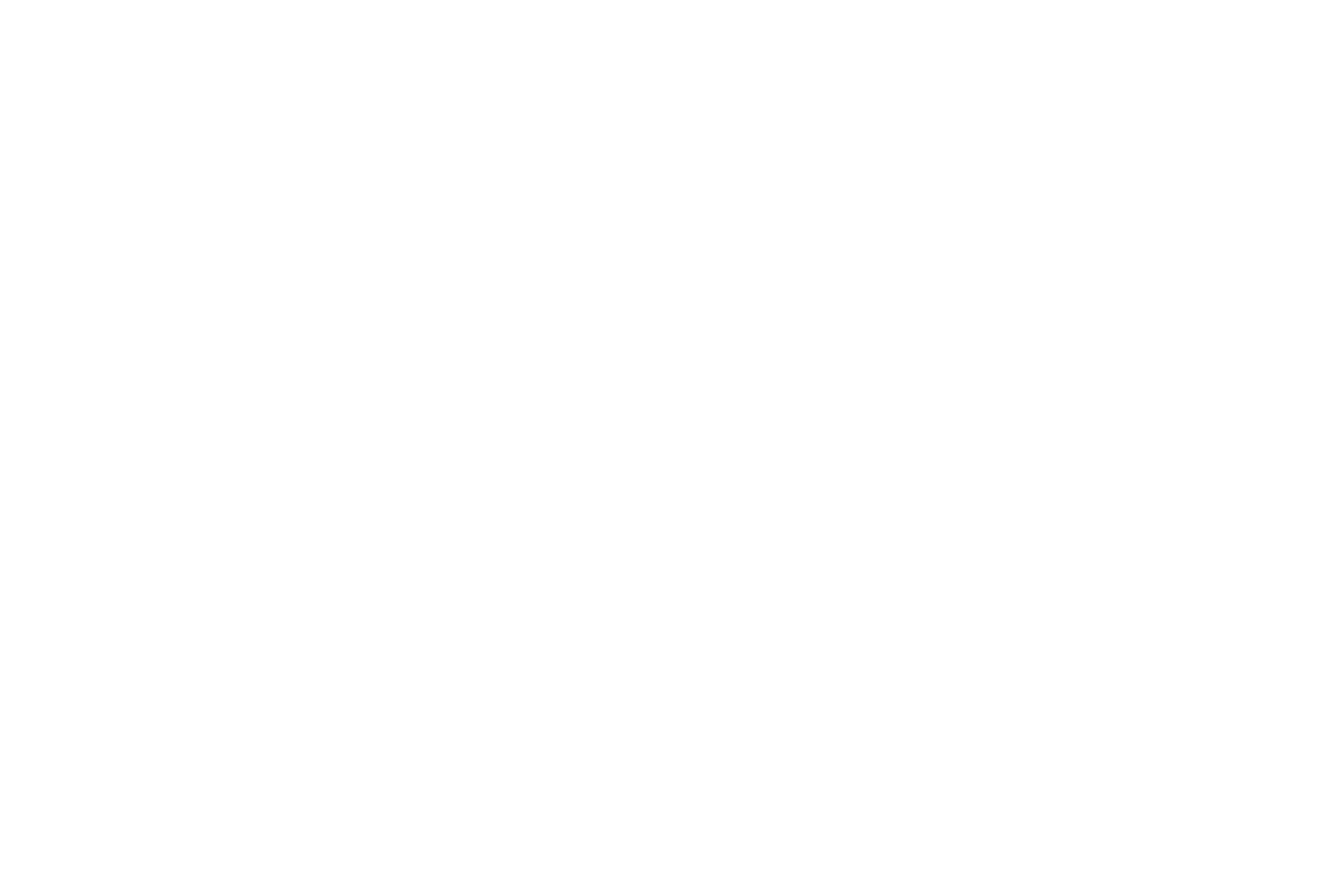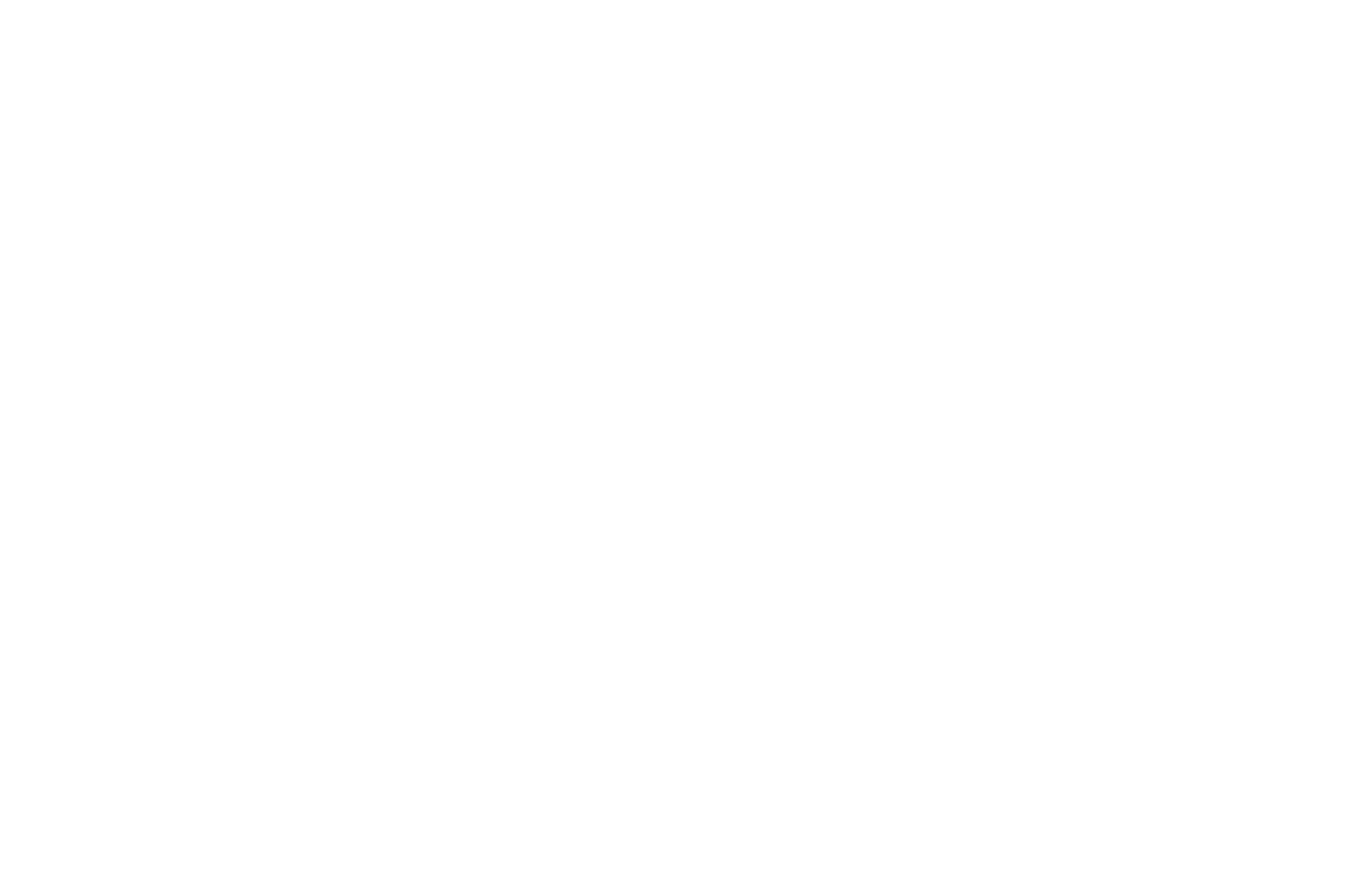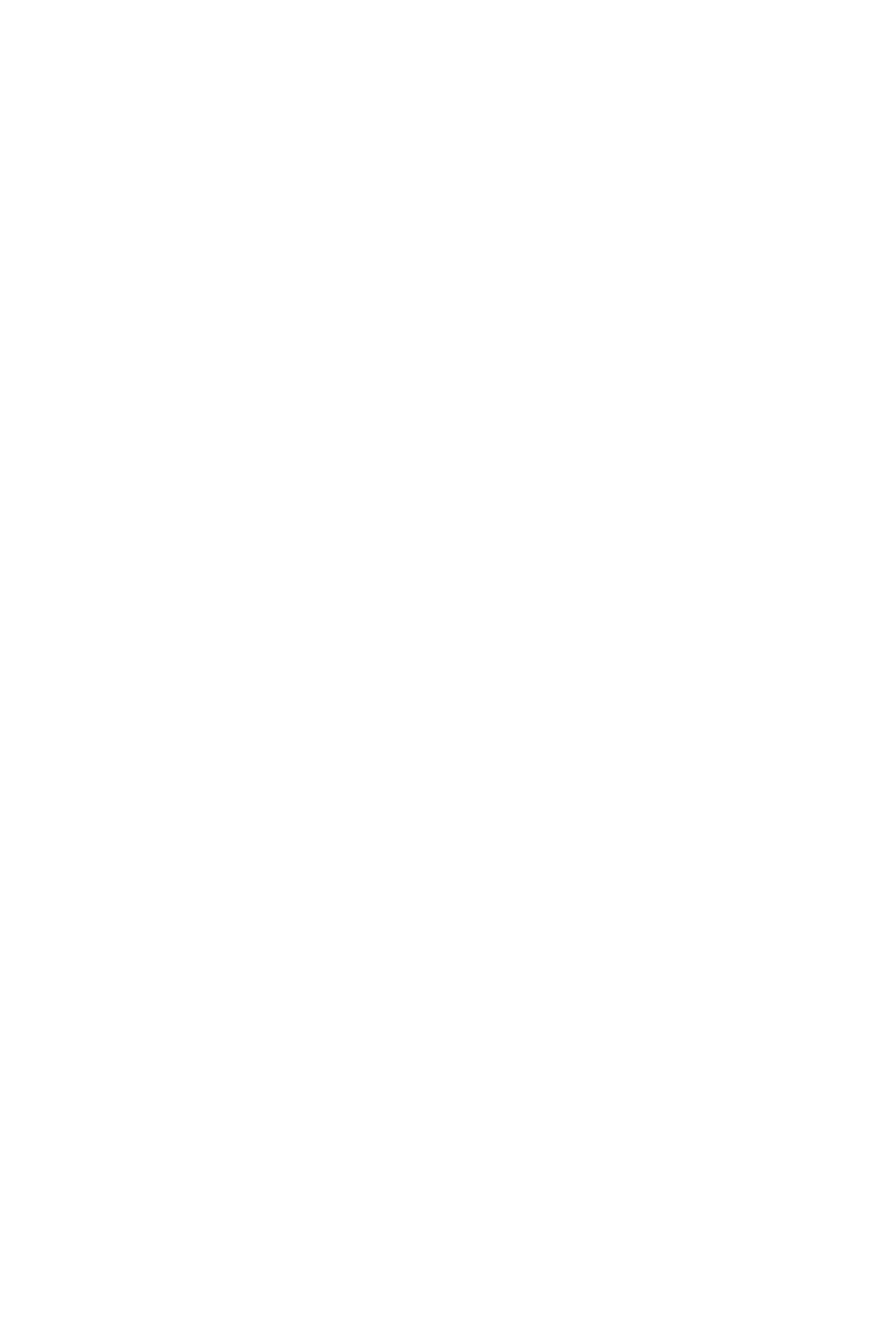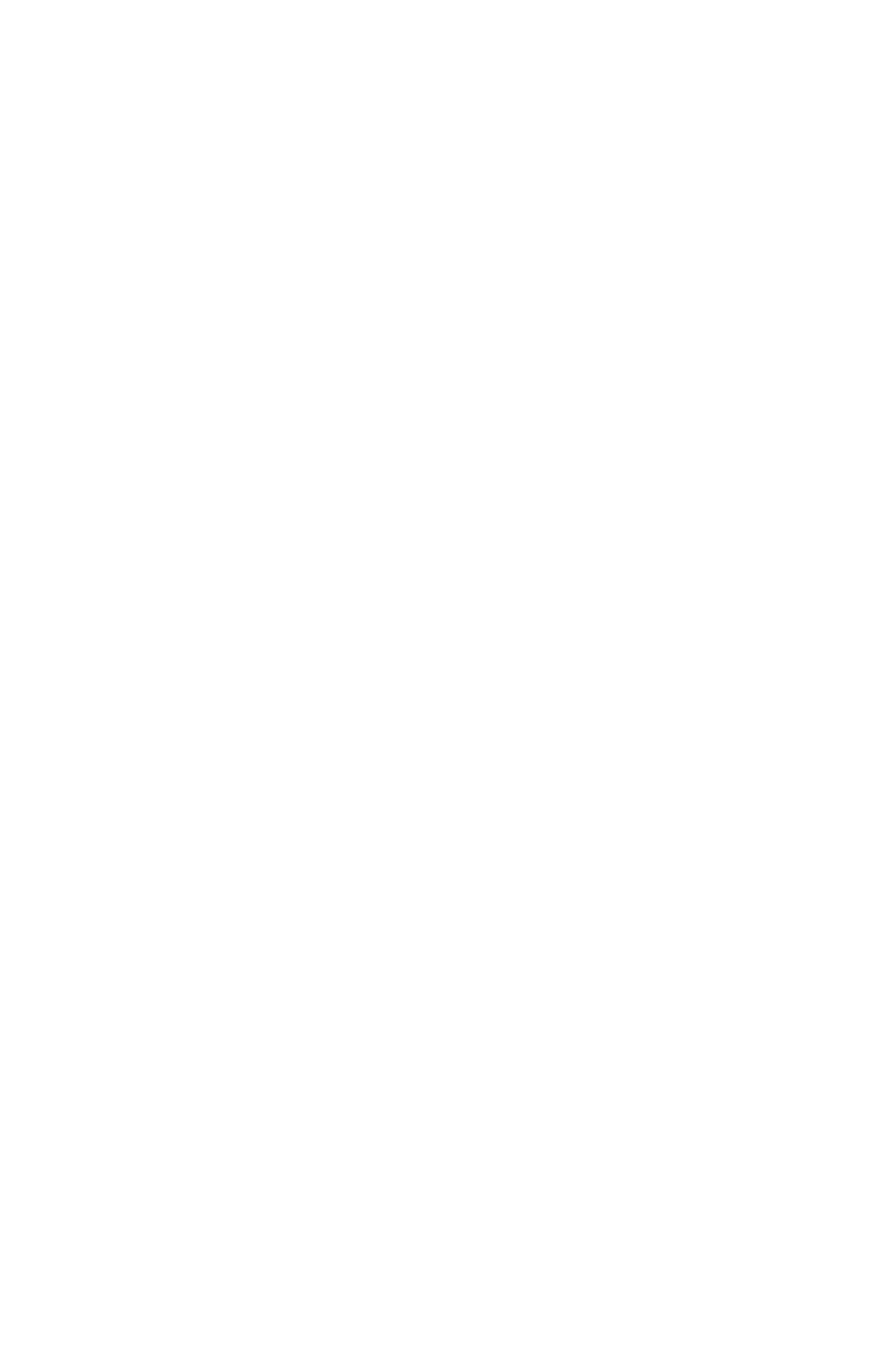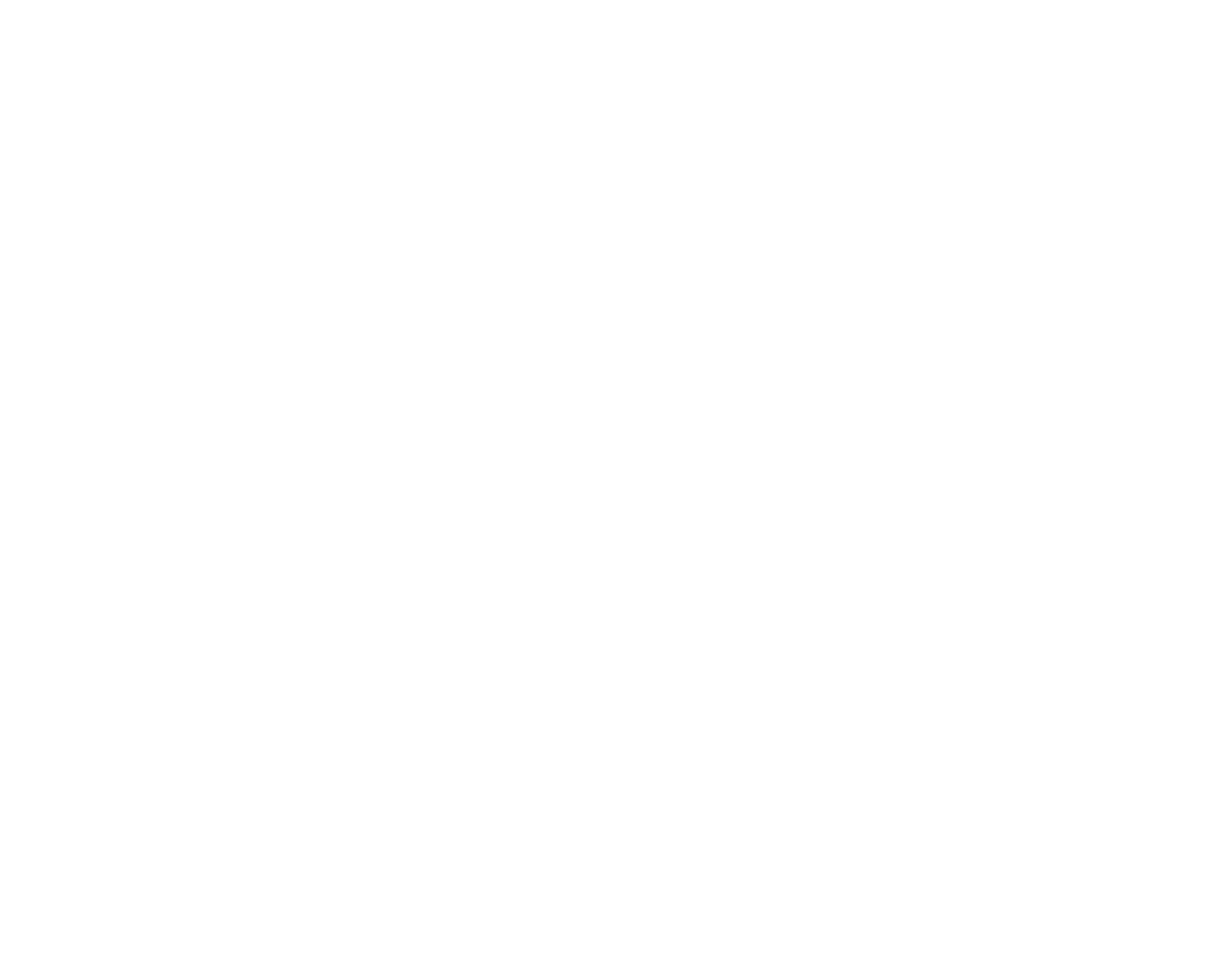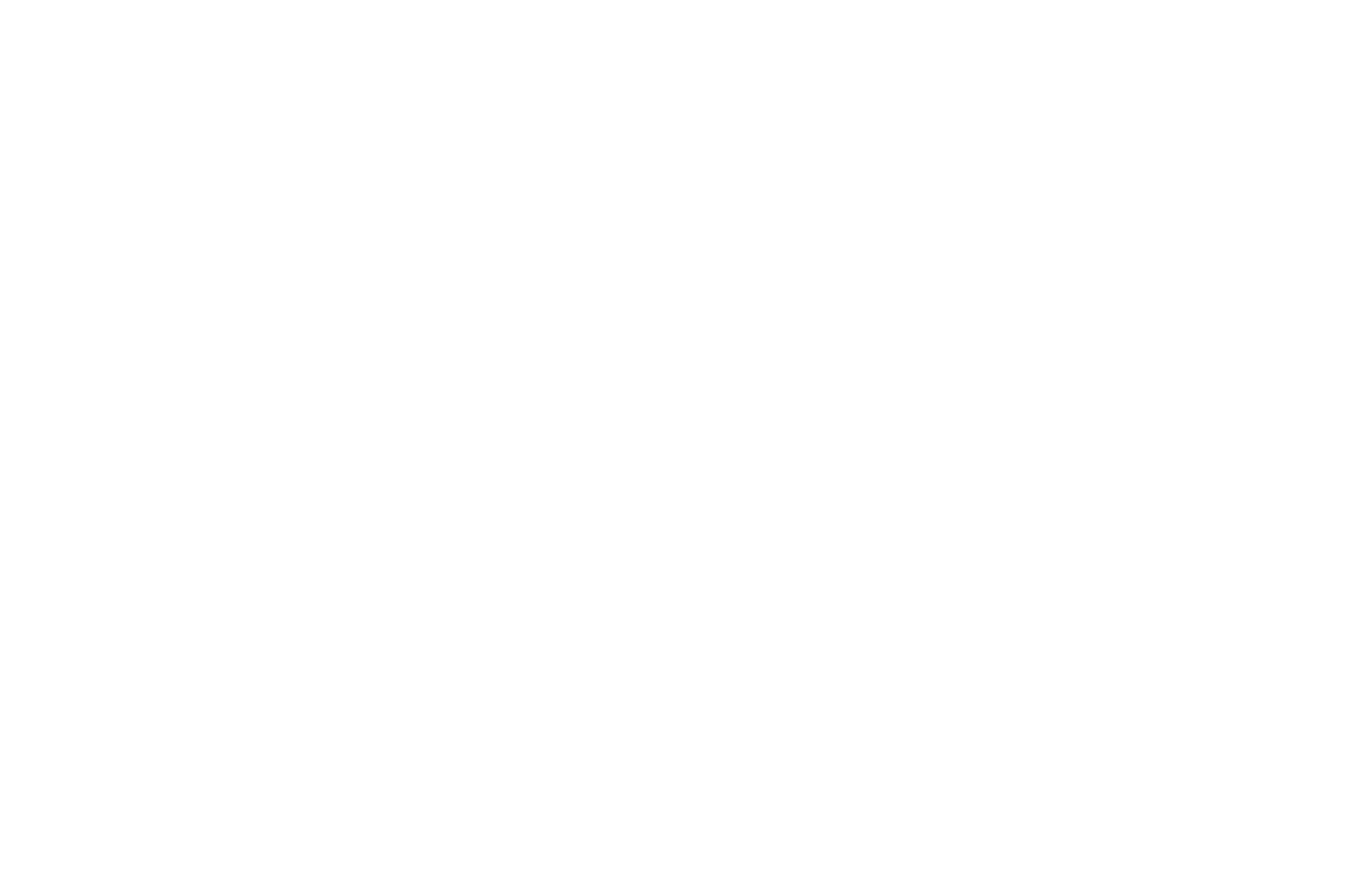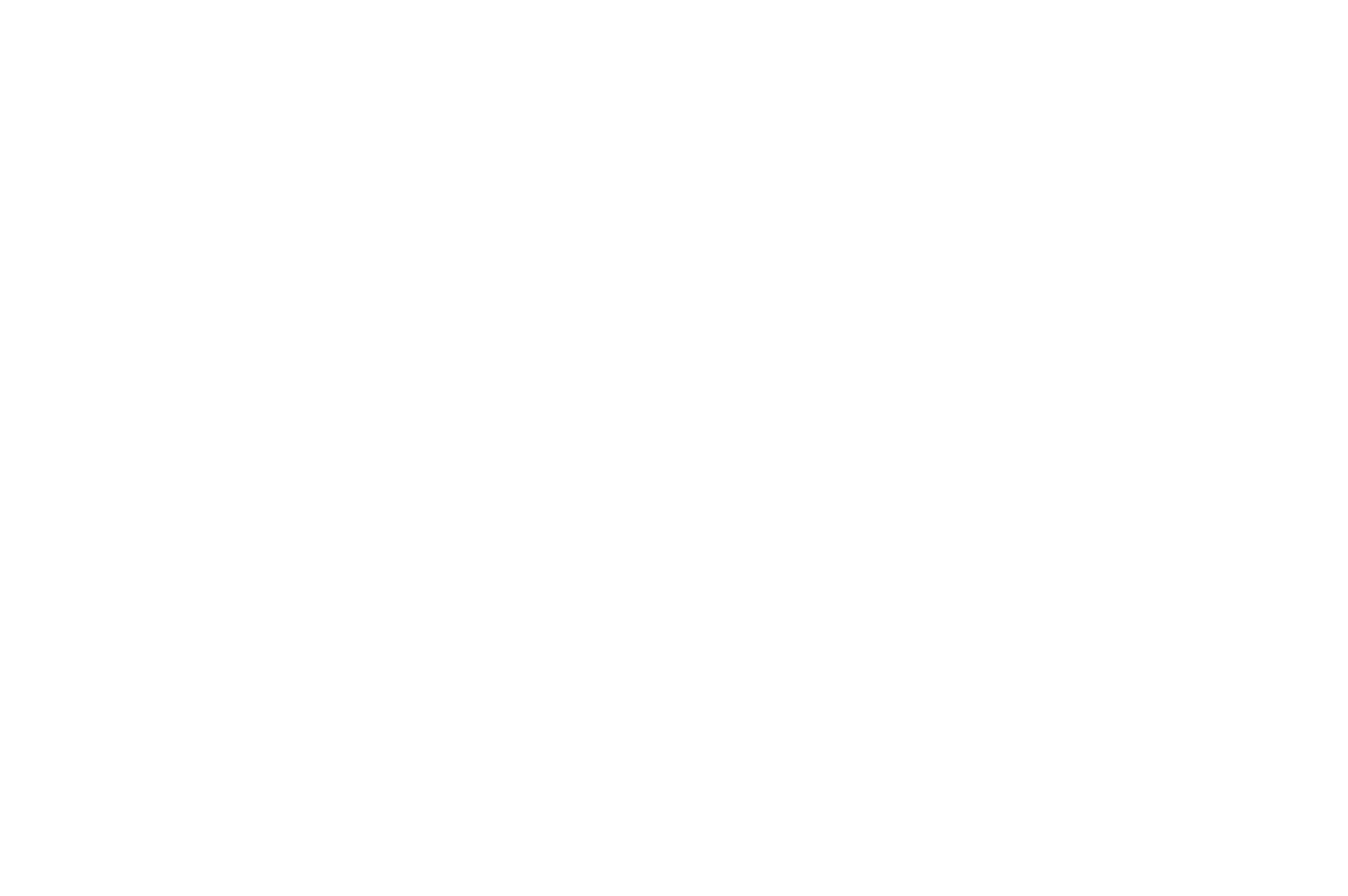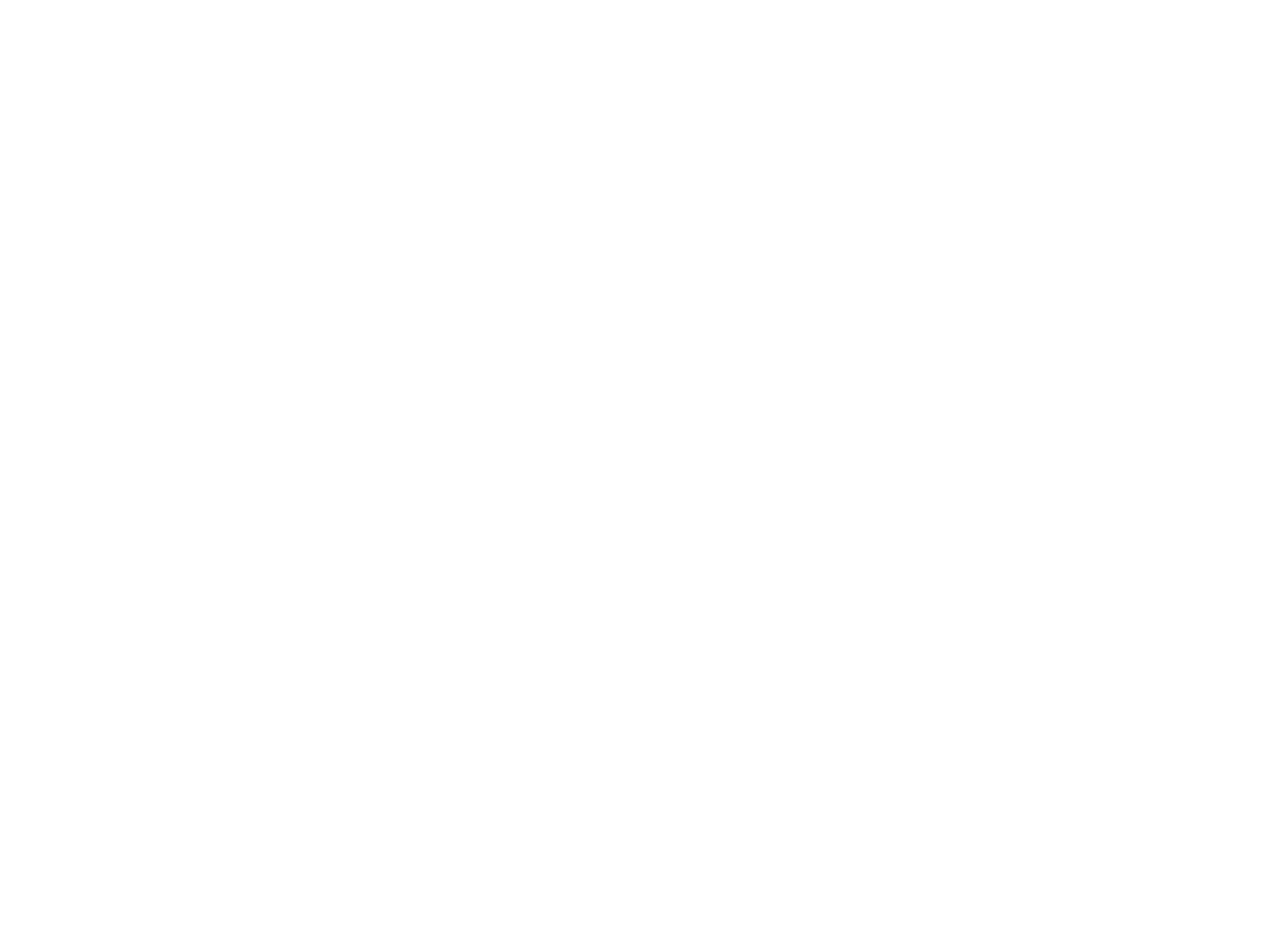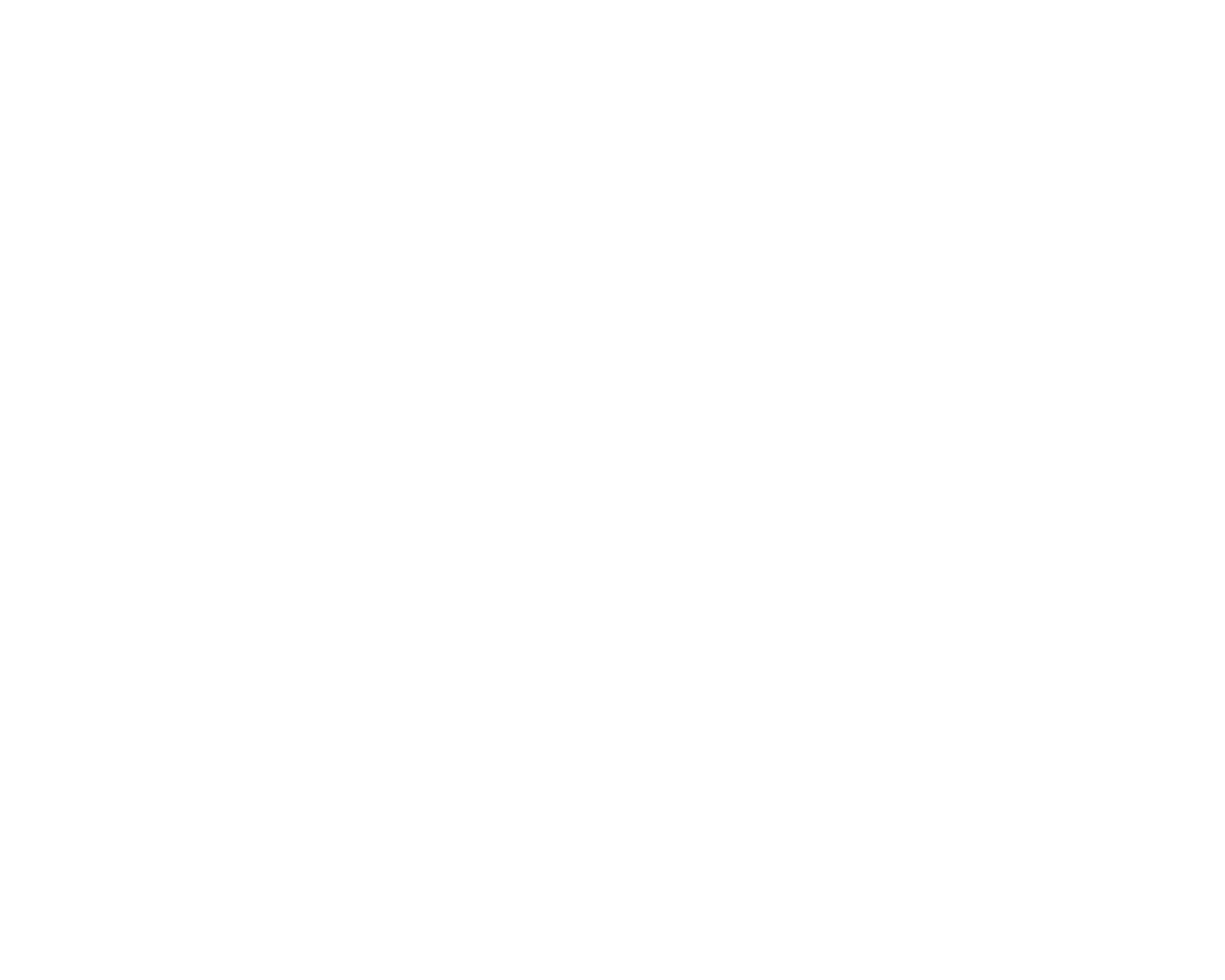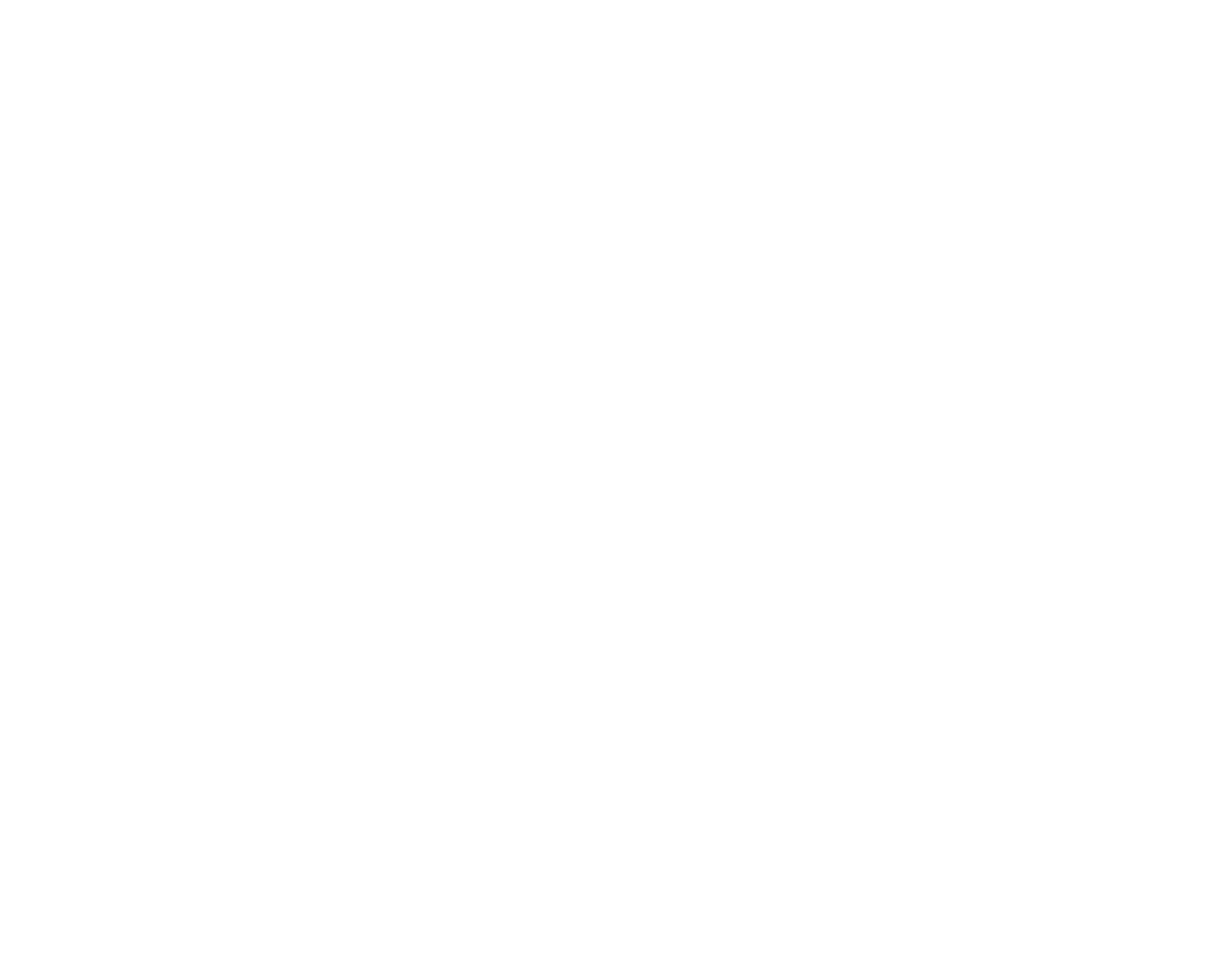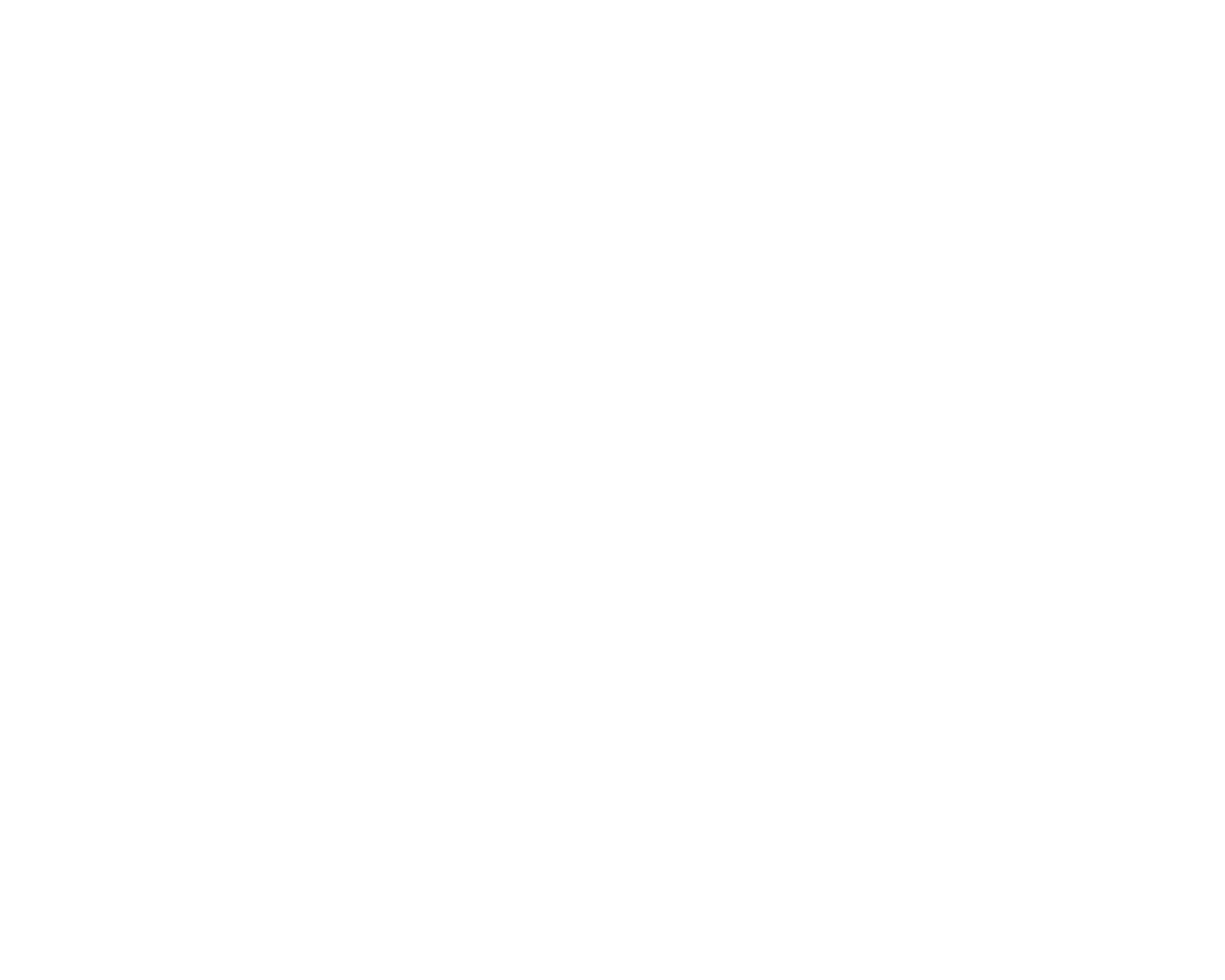уличные театры и танцы как способ зажечь свет в окнах усадьбы
Усадьбы снова на повестке дня – словно спящие великаны, которых пробуждает время. Почти каждый день слышны новости: одну усадьбу берут под опеку, другую открывают после реставрации, третью передают команде для дальнейших работ.
Но есть и другая история – более тихая. Она про людей, которые начали возвращать жизнь в старинные дома задолго до того, как это стало «трендом».
Часто всё начинается с одного человека. Кажется, что этого мало, но вместе с ним в усадьбу входят тепло, энергия и любовь десятков, а затем и сотен людей. Так, имя Николая Алфеевича Сайкина для многих неотделимо от усадьбы Резановых–Андреевых под Вологдой: он оживлял парк, запускал пруды, занимался реставрацией. На это уходит очень много «жизни» – но взамен возвращается ещё больше.
Музыка, танцы, уличные театры, ярмарки – форматы, которые способны дать необходимый импульс и вдохнуть новую жизнь в пространство. Так и замкнулся круг – в усадьбе Резановых-Андреевых прошёл пилотный фестиваль уличных театров. Его программа напоминала оживший сон усадебного парка: уличные театры и рукодельные ярмарки, лекции о быте и экскурсии, мастер-классы по танцам и финальные вечерние перформансы в пустующих комнатах как результат недельной лаборатории в стенах усадьбы.
Писать репортажи – не в наших правилах, поэтому расскажем о людях, которые проектируют свою собственную реальность, где уличный театр есть в каждом городе, а вечером после работы можно танцевать «яблочко».
Что такое современный уличный театр? Можно ли создать его в вашем городе, в вашей усадьбе? И как поставить на открытом воздухе спектакль так, чтобы с минимальным реквизитом рассказать добрый десяток сказок?
Но есть и другая история – более тихая. Она про людей, которые начали возвращать жизнь в старинные дома задолго до того, как это стало «трендом».
Часто всё начинается с одного человека. Кажется, что этого мало, но вместе с ним в усадьбу входят тепло, энергия и любовь десятков, а затем и сотен людей. Так, имя Николая Алфеевича Сайкина для многих неотделимо от усадьбы Резановых–Андреевых под Вологдой: он оживлял парк, запускал пруды, занимался реставрацией. На это уходит очень много «жизни» – но взамен возвращается ещё больше.
Музыка, танцы, уличные театры, ярмарки – форматы, которые способны дать необходимый импульс и вдохнуть новую жизнь в пространство. Так и замкнулся круг – в усадьбе Резановых-Андреевых прошёл пилотный фестиваль уличных театров. Его программа напоминала оживший сон усадебного парка: уличные театры и рукодельные ярмарки, лекции о быте и экскурсии, мастер-классы по танцам и финальные вечерние перформансы в пустующих комнатах как результат недельной лаборатории в стенах усадьбы.
Писать репортажи – не в наших правилах, поэтому расскажем о людях, которые проектируют свою собственную реальность, где уличный театр есть в каждом городе, а вечером после работы можно танцевать «яблочко».
Что такое современный уличный театр? Можно ли создать его в вашем городе, в вашей усадьбе? И как поставить на открытом воздухе спектакль так, чтобы с минимальным реквизитом рассказать добрый десяток сказок?
Оглавление:
Чтобы настроиться на материал - подборка музыки
Для нас её собрал актёр, саунд-мастер, музыкальный куратор театра «Странствующие куклы господина Пэжо» и бутафор Павел Стефанов.
Мы поговорили с одним из основных создателей этого формата Олегом Скотниковым
- Олег Скотниковоснователь проекта «Странствующие куклы господина Пэжо»
Уличный театр – какой он сейчас?
Есть театры с гигантскими семиметровыми марионетками, есть маленькие театры одного актёра. Палитра направлений огромна. Но преемственности от старых уличных театров нет – связь утеряна. Из тех театров, что возникли в 1990-е годы, остались единицы – такие, например, как театр господина Пэжо.
О связи с усадьбами
Мы очень любим парки. Наш проект «Странствующие куклы господина Пэжо» зародился в усадьбе Николая II, которую мы превратили в театр. Мы много дружили с усадьбами в Европе, видели, как у них всё устроено. И стало ясно: нужна параллельная система фестивалей, ориентированная на актёров, театральное сообщество, а не только на публику. Например, «ЯСЕНь фест». Здесь именно внутренняя работа: недельная лаборатория, где мы все живём и обмениваемся опытом и идеями.
О формате камерных фестивалей
Большие фестивали для публики проводить мы уже умеем. Здесь же задачей стал локальный формат – лаборатория, где всё начинается с коммуникации между артистами. Для них игра – это профессия и рутина. Но мы хотим создать особое событие, где актёры смогли бы свежим взглядом увидеть своё ремесло, вернуть интерес и вдохновение к игре.
О театре масок господина Пэжо
«Странствующие куклы господина Пэжо» – петербургский уличный театр маски и пластики, более тридцати лет создающий собственную школу движения и авторскую эстетику. За это время коллектив поставил свыше двадцати спектаклей, разработал дюжину постановок для других трупп, открыл мастерские, где появилось более трёхсот масок, и стал инициатором создания Российского Союза Уличных Театров и Артистов.
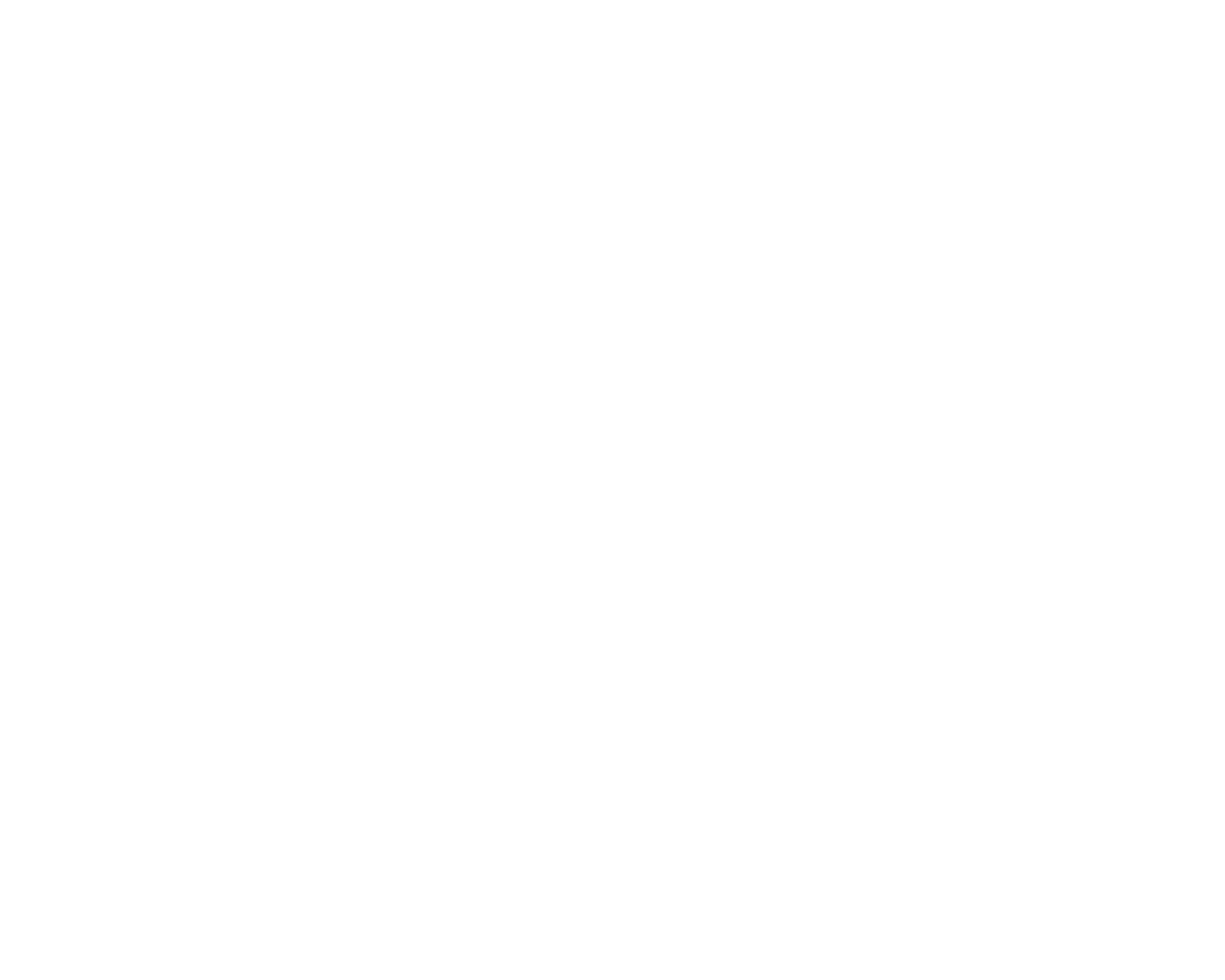
Матушка медоуз
Художественный руководитель и режиссёр проекта – Анна Шишкина (Скотникова). Актёры ласково называют её то матушкой, то Аннушкой. Имя-олицетворение Анны – Матушка Медоуз.
Анна уверена, что уличный театр – искусство, которое понятно каждому, что смыслы ощущаются и кожей, и сердцем, и разумом – кто как умеет: «Большинство постановок – это спектакли-вилки: есть слой для детей, есть для широкой аудитории, есть для увлечённых театром.
Анна уверена, что уличный театр – искусство, которое понятно каждому, что смыслы ощущаются и кожей, и сердцем, и разумом – кто как умеет: «Большинство постановок – это спектакли-вилки: есть слой для детей, есть для широкой аудитории, есть для увлечённых театром.
— В чём вы видите ключевое отличие от стандартных театров?
— В театр ходит только 2-3 процента населения. Остальные по разным причинам не включают это в культурную практику. И если зритель не идёт в театр, театр должен сделать шаг навстречу. И в этом смысле театр без «четвёртой стены» в уличном формате помогает привлечь нового зрителя и самому актёру выйти из рутины, становится зоной эксперимента и повышения квалификации.
— Как вам удаётся воплотить в жизнь столь сложные затеи?
– Наш театр – маленькая фабрика. Например, за неделю мы сшили 78 костюмов, создали уникальный перформанс, композитор написал музыку. Для всех наших спектаклей, а иногда и тех, что мы помогаем ставить, мы сами шьём костюмы, делаем декорации, маски, музыку. Это позволяет создавать необычное, впечатляющее из самой жизни. Например, «Месяцы» (один из спектаклей театра. – Прим. ред.) возникли случайно: мы нашли чемоданы с выброшенными вещами, по всей видимости, чьей-то бабушки.
Найденные там чистые, накрахмаленные салфетки и скатерти, в которые вложена жизнь, стали основой спектакля. Поэтому и «Месяцы» особенные. Да и другие наши спектакли: мы никому не передаём задуманное, а создаём его собственными руками, правя и вдохновляясь прямо в момент репетиций.
Найденные там чистые, накрахмаленные салфетки и скатерти, в которые вложена жизнь, стали основой спектакля. Поэтому и «Месяцы» особенные. Да и другие наши спектакли: мы никому не передаём задуманное, а создаём его собственными руками, правя и вдохновляясь прямо в момент репетиций.
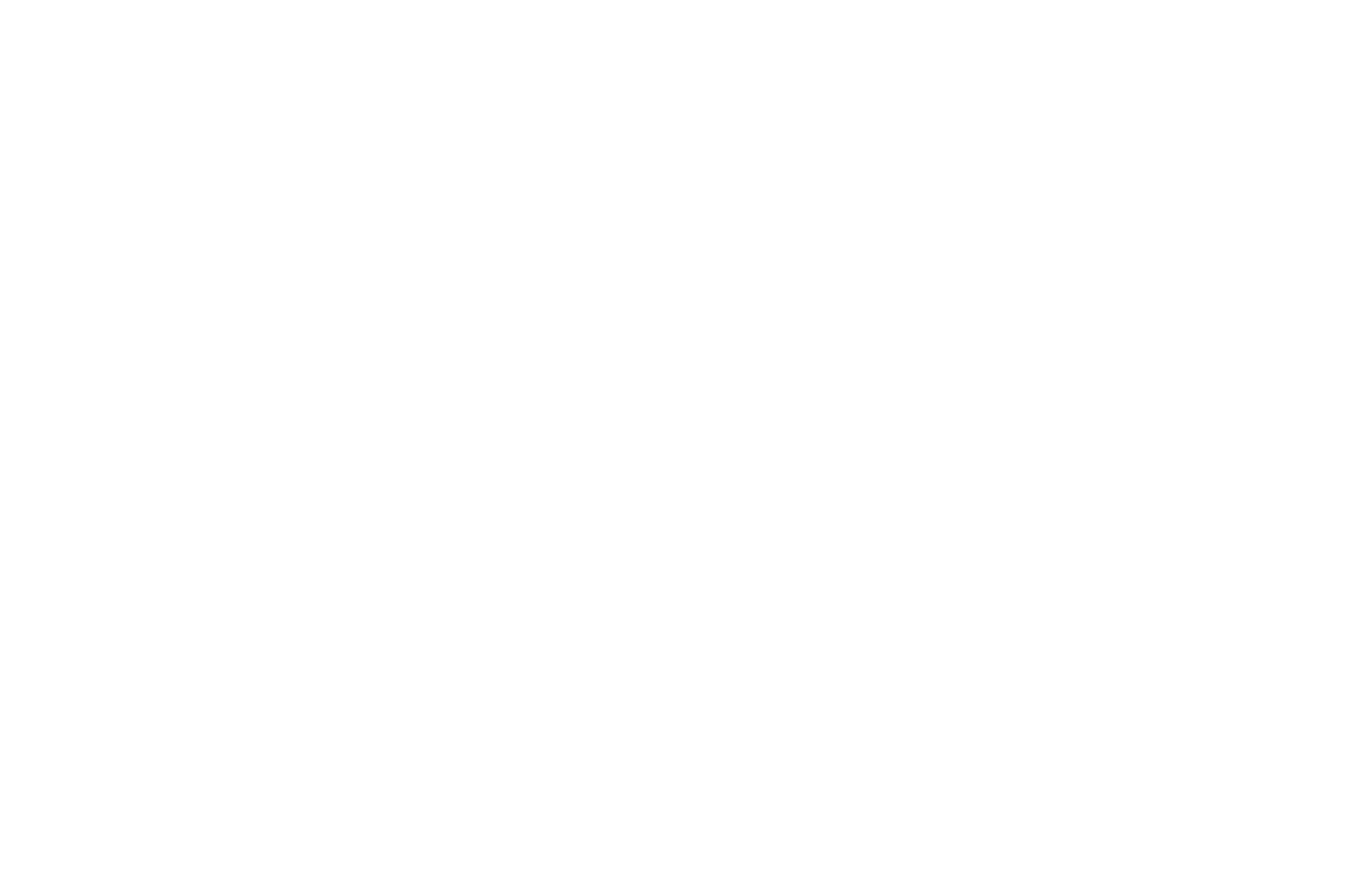
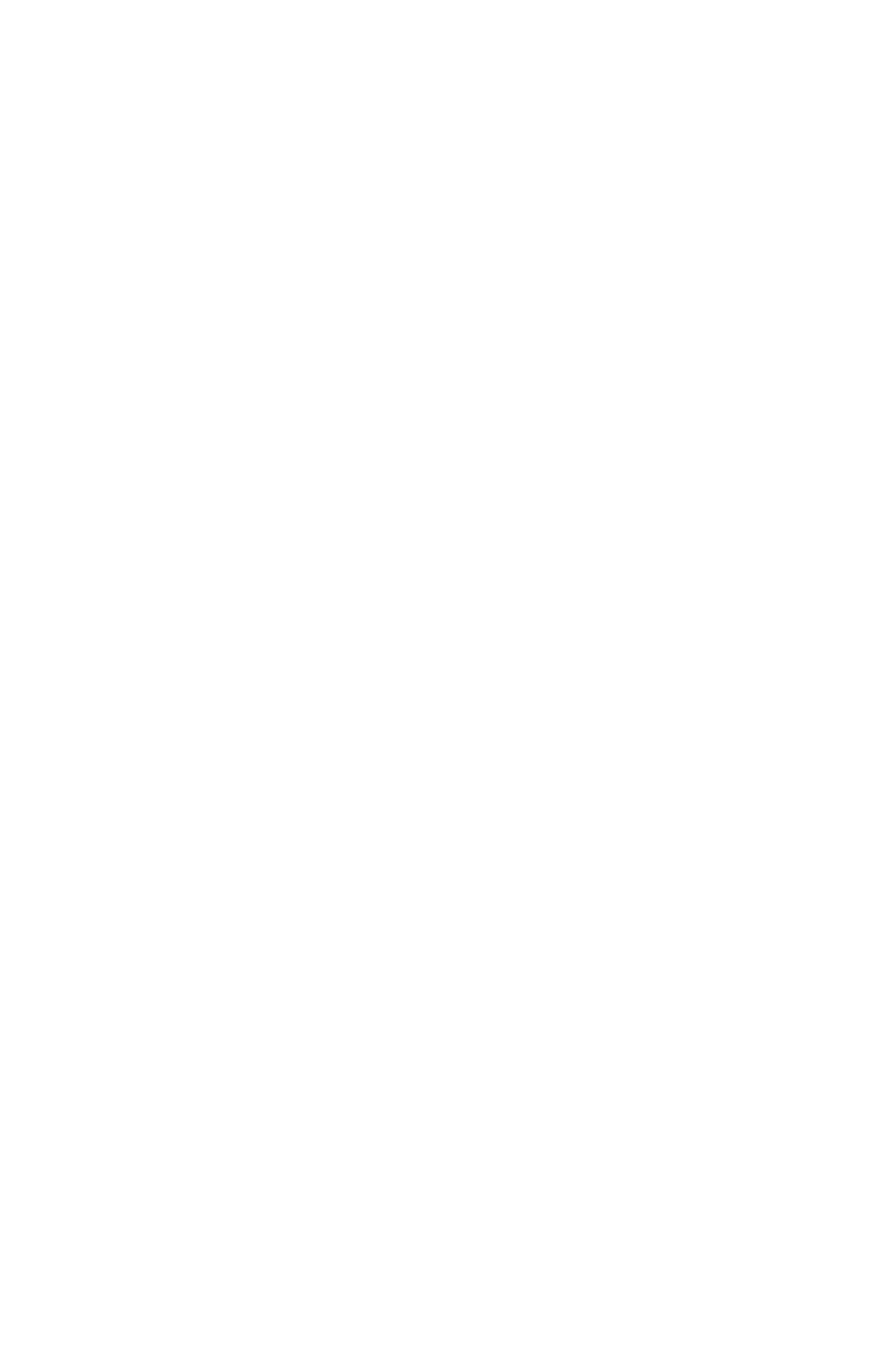
— Фестиваль может быть ориентирован на усадьбу? Как можно привязать существующий репертуар к усадебному возрождению?
— О, мы пригласили кнут-шоу и профессионального артиста оригинального жанра – Александра Барона. Потому что мы старались подбирать жанры, органичные для усадьбы. Усадьба – это не только дом, но и службы. Здесь был конный завод, и образ конюха оказался очень уместным. Театр – это всегда не только мысль, но и чувство, ассоциации. Получается, фестиваль в Куркино стал примером живого сотрудничества, а руководство усадьбы делает из неё не музей, а центр искусств.
Чем для людей может стать фестиваль в усадьбе? Способом хотя бы на пару дней забыть о тревогах и проблемах, соприкоснуться с красотой и общением.
— Анна Шишкина (Скотникова)
— Анна Шишкина (Скотникова)
Спектакль «Месяцы» – один из ключевых проектов Театра господина Пэжо
Это путешествие в мир, где сон становится игрой. Пятеро персонажей наводят свои лунные порядки, поют, играют на флейте и в финале укладывают зрителей спать, превращая их в участников большого сна.
Лирический и ироничный, он возвращает к детской памяти – когда под одеялом умещался целый космос, а пространство сна было зоной для игр, страхов и откровений.
Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург)
Режиссёр – Анна Шишкина (Скотникова)
Актёры – Даниил Ветошкин, Анастасия Воробьёва, Евгения Погожева, Наталия Манири, Павел Стефанов, Алексей Сычёв
[Узнать больше]
Лирический и ироничный, он возвращает к детской памяти – когда под одеялом умещался целый космос, а пространство сна было зоной для игр, страхов и откровений.
Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург)
Режиссёр – Анна Шишкина (Скотникова)
Актёры – Даниил Ветошкин, Анастасия Воробьёва, Евгения Погожева, Наталия Манири, Павел Стефанов, Алексей Сычёв
[Узнать больше]
Маска как зеркало и откровение
Маска – символ смерти, но именно она возвращает жизнь. В спектаклях актёры и зрители переживают опыт «обнажённого сердца»: маска стирает привычные роли, а человек на время оказывается беззащитным и свободным.
Наш собеседник – актёр, саунд-мастер, музыкальный куратор театра и бутафор Павел Стефанов.
Наш собеседник – актёр, саунд-мастер, музыкальный куратор театра и бутафор Павел Стефанов.
- Павел Стефановактёр, саунд-мастер, музыкальный куратор театра и бутафор
В «Месяцах» ты играешь Месяц. Каково играть в маске?
Маска – очень выразительный инструмент. Зрители воспринимают нас как существ, а не как людей. И для многих это шок, когда в конце мы снимаем её. Мы – трикстерский театр карнавальной культуры, и наша задача – оживить маску. Поэтому у нас есть приём «микромаска» – небольшие микро-движения, почти незаметные. Они создают эффект оживления. Маска никогда не статична, иначе зритель подсознательно считывает её как смерть – самые первые маски были погребальными. Потом уже появились обрядовые, карнавальные и, наконец, театральные маски.
Как вы работаете с реакциями зрителей?
Мы используем социальные и бытовые рефлексы. Например, человек всегда поможет ребёнку или откликнется на уязвимость. Маска усиливает эффект: зритель думает, что играет не с человеком, а с существом. Включаются даже PET-рефлексы: человек гладит, кормит, обнимает актёра в маске как питомца. В спектакле есть момент с объятьями – каждый зритель может обняться с Месяцем. Любой хороший спектакль – это взаимный обмен энергией. В «Месяцах» объятие стало финальным штрихом: спектакль получился самым лирическим в нашем репертуаре.
Получается, вы с помощью масок снимаете социальные «маски» со зрителей?
Да, именно. Мы обнажаем человека, его сердце и душу. Важно, чтобы зритель вынес это чувство наружу и помнил о нём. Тогда у него остаётся опыт, к которому можно возвращаться.
Маска становится инструментом доверия, позволяя зрителям выйти за пределы привычного.
— Когда зритель замечает, что звук настоящий, то для него как будто спектакль становится ещё более впечатляющим: звук не записан, это не музыка, а игра.
— Да, именно я издаю эти звуки. Это речь. В моей голове они так разговаривают: каждый по-своему. Я скорее говорю не как актёр, а как маска. У неё есть мимика, и я пытаюсь издать звуки, которые она могла бы издать. Если персонаж побольше, то звук ниже. Если явно женский – звук высокий. Я выбираю того актёра, который находится в центре внимания, и озвучиваю. В равномерных сценах нужно быстро переключаться: маска начинает взаимодействовать, когда вы её видите, в это время вы слышите, что она как будто разговаривает, а когда уходит или оборачивается – замолкает или говорит шёпотом. Спектакль не длинный, всего 40 минут, поэтому голос садится только к концу.
— Да, именно я издаю эти звуки. Это речь. В моей голове они так разговаривают: каждый по-своему. Я скорее говорю не как актёр, а как маска. У неё есть мимика, и я пытаюсь издать звуки, которые она могла бы издать. Если персонаж побольше, то звук ниже. Если явно женский – звук высокий. Я выбираю того актёра, который находится в центре внимания, и озвучиваю. В равномерных сценах нужно быстро переключаться: маска начинает взаимодействовать, когда вы её видите, в это время вы слышите, что она как будто разговаривает, а когда уходит или оборачивается – замолкает или говорит шёпотом. Спектакль не длинный, всего 40 минут, поэтому голос садится только к концу.
фрагменты спектакля
звук и голос маски
Важная часть этого спектакля, без которой его невозможно представить, – сопровождение «Месяцев» особым живым звуком. В спектаклях «Странствующих кукол господина Пэжо» за дыхание персонажей отвечает Алексей Сычёв – он буквально «оживляет» маски.
Актёр Алексей Сычев говорит, что он просто переключает музыку, но на самом деле он «говорит» за Месяцы, и это очень интересно: спектакль всегда неповторим.
Актёр Алексей Сычев говорит, что он просто переключает музыку, но на самом деле он «говорит» за Месяцы, и это очень интересно: спектакль всегда неповторим.
- Алексей Сычёв
— Как находите эти звуки?
— Это детская игра. Я играю примерно также, как дети, когда они озвучивают игрушки. Настраиваю тембр голоса на маску, а дальше реплики рождаются сами. Заранее придумывать текст не люблю. Моей лучшей школой и цензором является улица: сразу видишь реакцию зрителя.
Фольклор не только в звуках, но и самих спектаклях. Например, в одном из спектаклей есть сцена русской деревни, в ней появляются маски: домовые, кикимора, банник, в этом же спектакле – архаичные персонажи с деревянными масками. Здесь сверхзадача – погрузить зрителей в разные уровни.
Фольклор не только в звуках, но и самих спектаклях. Например, в одном из спектаклей есть сцена русской деревни, в ней появляются маски: домовые, кикимора, банник, в этом же спектакле – архаичные персонажи с деревянными масками. Здесь сверхзадача – погрузить зрителей в разные уровни.
Звук превращает мёртвое в живое.
Танец как возвращение веселья в усадьбы
Когда-то усадьбы жили балами и хороводами. Сегодня в них возвращается живая энергия народного танца. Под музыку группы «Отава Ё» гости фестиваля танцевали хороводы, смеясь и ловя друг друга, повторяя движения из старых деревенских праздников. Идею ребята подхватили в Европе и Прибалтике.
Исторические факты о танцах в усадьбе:
В августе 2020 года открылась обновлённая экспозиция музея «Балетного зала», представленная собственными музейными предметами и коллекцией макетов костюмов из балетов, поставленных на либретто Сергея Николаевича Худекова – «Баядерка», «Зорайя», «Роксана», «Весталка».
В XVIII столетии владелец усадьбы граф Пётр Борисович Шереметев любил отмечать день своего святого – Петров день, православный праздник апостолов Петра и Павла.
В августе 2020 года открылась обновлённая экспозиция музея «Балетного зала», представленная собственными музейными предметами и коллекцией макетов костюмов из балетов, поставленных на либретто Сергея Николаевича Худекова – «Баядерка», «Зорайя», «Роксана», «Весталка».
В XVIII столетии владелец усадьбы граф Пётр Борисович Шереметев любил отмечать день своего святого – Петров день, православный праздник апостолов Петра и Павла.
ДЕРЕВЕНСКИЕ ТАНЦЫ отавы ё
Фронтмен проекта рассказывает, что русские танцы очень простые: «раз-два посмотрел – и уже умеешь». Знакомить с танцем через мастер-классы, когда музыканты танцуют с гостями и исполняют песни параллельно – для людей это новый опыт. Именно это отличает атмосферу фестивального танцевального мастер-класса от концерта.
— Это спонтанный мастер-класс?
— Нет-нет, не спонтанно. Примерно 25 лет назад мы были на гастролях и увидели этот формат в Европе, в Прибалтике. Это не идентичность конкретной страны, а просто танцы. Люди собираются и танцуют, в основном это ночные события – просто всю ночь пляшут народные танцы. Подобное потом видели в Британии, Франции. С той лишь разницей, что некоторые танцы, например, прибалтийские, проще и порог входа ниже – каждый может. Британские танцы чуть посложнее, в них, скажем так, надо иметь хоть какой-то опыт в народных танцах. Русские народные бытовые тоже в основном простые – в них нет акробатики. Вот пойди и сходу присядку станцуй. Не получится! А Чижика – пожалуйста.
— Часто ли можно попасть на такие танцы?
— Я не могу сказать, что мы это часто проводим: не все фестивали подходят, не всегда есть время. Но если танцы состоялись – будет много положительных отзывов. Здесь мы специально не играем концертные вещи: это отдельная история. Концерт – вечерний формат, а такой мастер-класс – это и иммерсивность, и совсем другой уровень вовлечения в музыку, где человек не зритель, а участник. Для фольклора это то, что надо.
— Это только фестивальный формат?
— Нет, подобные события проходят и в городе. Например, вечёрки. Это действительно классная вещь. Под гармошку, без особых заморочек с музыкой. Гармонист играет – и все пляшут. Чтобы играть на вечёрках, не обязательно быть суперкрутым музыкантом: это могут делать все, кто угодно. Для танцующих уровень музыкантов не так важен – главное, чтобы мелодии знали и более-менее ритмично играли. Тогда все будут счастливы – и играющие, и танцующие.
Есть Царскосельская вечерина – уникальное событие. Но в конечном итоге и то, и другое – удел людей из тусовки, тех, кто «в теме». А на фестивальный мастер-класс могут случайно попасть самые разные люди: многие просто посмотрят, некоторые осмелятся потанцевать.
А когда танцуешь, сразу появляется лёгкая эйфория и счастье. Составляющие простые – зажигательная музыка, смех, и вот, никогда не танцевавший человек думает: «Я могу!» Мы никого не учим в привычном смысле слова, просто получаем удовольствие. Это же настоящий хэппенинг!
Мы же ещё и группой играем. Мне кажется, это важно, потому что ухо привыкло к определённому звуковому давлению. На открытой площадке всё должно быть сбалансировано. Вот так концепция и вырисовывалась, оттачивалась.
Есть Царскосельская вечерина – уникальное событие. Но в конечном итоге и то, и другое – удел людей из тусовки, тех, кто «в теме». А на фестивальный мастер-класс могут случайно попасть самые разные люди: многие просто посмотрят, некоторые осмелятся потанцевать.
А когда танцуешь, сразу появляется лёгкая эйфория и счастье. Составляющие простые – зажигательная музыка, смех, и вот, никогда не танцевавший человек думает: «Я могу!» Мы никого не учим в привычном смысле слова, просто получаем удовольствие. Это же настоящий хэппенинг!
Мы же ещё и группой играем. Мне кажется, это важно, потому что ухо привыкло к определённому звуковому давлению. На открытой площадке всё должно быть сбалансировано. Вот так концепция и вырисовывалась, оттачивалась.
— То есть в большинстве своём фольклор сейчас удел только некоторой категории людей? Как в него вовлекать? Если говорить о фольклоре с экспедициями и аутентичными записями, то это точно тяжело для неподготовленного человека. Тут всё выглядело по-другому – как будто вход с другой стороны.
— У нас подход развлекательный. С точки зрения серьёзного фольклориста он, наверное, может показаться поверхностным. Но с позиции обычного человека – это легко, порог входа отсутствует. Это общечеловеческая музыка. На этом этапе необязательно считывать какие-то исторические связи, понимать, что и откуда, изучать этнографические записи – можно просто услышать и сказать: «Ого, ничего себе!» А дальше человек может заинтересоваться, начать слушать фольклор глубже. У нас есть случаи, когда люди пишут: «Сначала познакомился с вами, а теперь бревно кручу».
Народная русская песня – «Куры рябые».
Снято в лесу Орехово (Ленинградская область), Токсово и в деревне Верхние Мандроги в январе-феврале 2022 г.
Режиссёрская группа и сценарий – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин
Оператор – Даниил Мороз
Танец становится коллективным переживанием, первым шагом к созданию сообщества вокруг усадьбы.
Слово и смех как лекарство
Когда звучат смех и сказ, усадьба вновь наполняется голосами. Спектакль Петровского деревенского театра Юрия Макеева показывает, как старые истории превращаются в пространство живого общения, где зрители становятся участниками.
- Юрий Макеевактёр, режиссёр, рассказчик
Юрий Макеев – актёр, режиссёр, рассказчик, для которого театр – не сцена, а живая встреча. Его проекты – от «Семейной пекарни», где вместе с репликами поднимаются в духовке круассаны, до проекта Петровского деревенского театра, призванного возродить традиции и атмосферу русской глубинки.
“
«Сказка народная – значит, вышла из народа. Мы приглашаем зрителей к нам во двор – на завалинку, где истории рождаются заново. Колки́ заданы, но то, что случится между ними, всегда неожиданно».
— Расскажите про спектакль «Деревенские истории, известные и не очень».
— Фактически спектакль про то, из чего появились некоторые русские сказки – это мастер-класс по балагурингу. Балагуринг – от слова «балагур», весельчак, рассказчик, сказитель. Это и балаган, и потеха. В нашем спектакле есть внутренняя драматургия – простая, но чёткая.
Драматургия поддерживается музыкой. Иногда спектакль сопровождается гармошкой или балалайкой, что, безусловно, соответствует теме – будто несколько бравых молодцев оказались во дворе, чтобы поделиться историями. Обычно у нас целый маленький оркестр: гусли, баян, балалайка, вокал. Так было и в старину: никаких микрофонов, только голос, умение и инструменты.
Драматургия поддерживается музыкой. Иногда спектакль сопровождается гармошкой или балалайкой, что, безусловно, соответствует теме – будто несколько бравых молодцев оказались во дворе, чтобы поделиться историями. Обычно у нас целый маленький оркестр: гусли, баян, балалайка, вокал. Так было и в старину: никаких микрофонов, только голос, умение и инструменты.
— Как вы работаете с неожиданной реакцией зрителей?
— Это вызов. Нужно быстро просчитать ситуацию. Иногда достаточно взглядом показать, что я вижу людей, но не вовлекаю, чтобы они не разрушили ход спектакля. Бывает, что помогают организаторы. Здесь важно чувствовать грань: не дать испортить вечер остальным.
Это как в деревне, где я живу. Приезжие по выходным включают музыку ночью. Для них – катарсис, а для нас – проблема. Нужно учиться уважать друг друга: твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
— Это вызов. Нужно быстро просчитать ситуацию. Иногда достаточно взглядом показать, что я вижу людей, но не вовлекаю, чтобы они не разрушили ход спектакля. Бывает, что помогают организаторы. Здесь важно чувствовать грань: не дать испортить вечер остальным.
Это как в деревне, где я живу. Приезжие по выходным включают музыку ночью. Для них – катарсис, а для нас – проблема. Нужно учиться уважать друг друга: твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
фрагмент спектакля
— Получается, уличный театр формирует и сообщество?
— Да, мы маленькие врачеватели. Это арт-терапия. Уличный театр лечит словом, жестом, музыкой. Но ответственность колоссальная: можно излечить, а можно и покалечить.
— Уличный театр живёт только на фестивалях или и в городах?
— Он живёт везде. Там, где остановился «вагончик», появился временный купол, – там рождается мир. Но важно, чтобы за этим стояли люди, которые будут продолжать дело. Иначе магия исчезнет. Я мечтаю, чтобы наш труд поддержали: кто-то поможет вынести мусор, кто-то – покрасить усадьбу. Тогда Николай, организатор, скажет: «Может, в следующем году сделаем ещё?» Вот это было бы настоящее чудо.
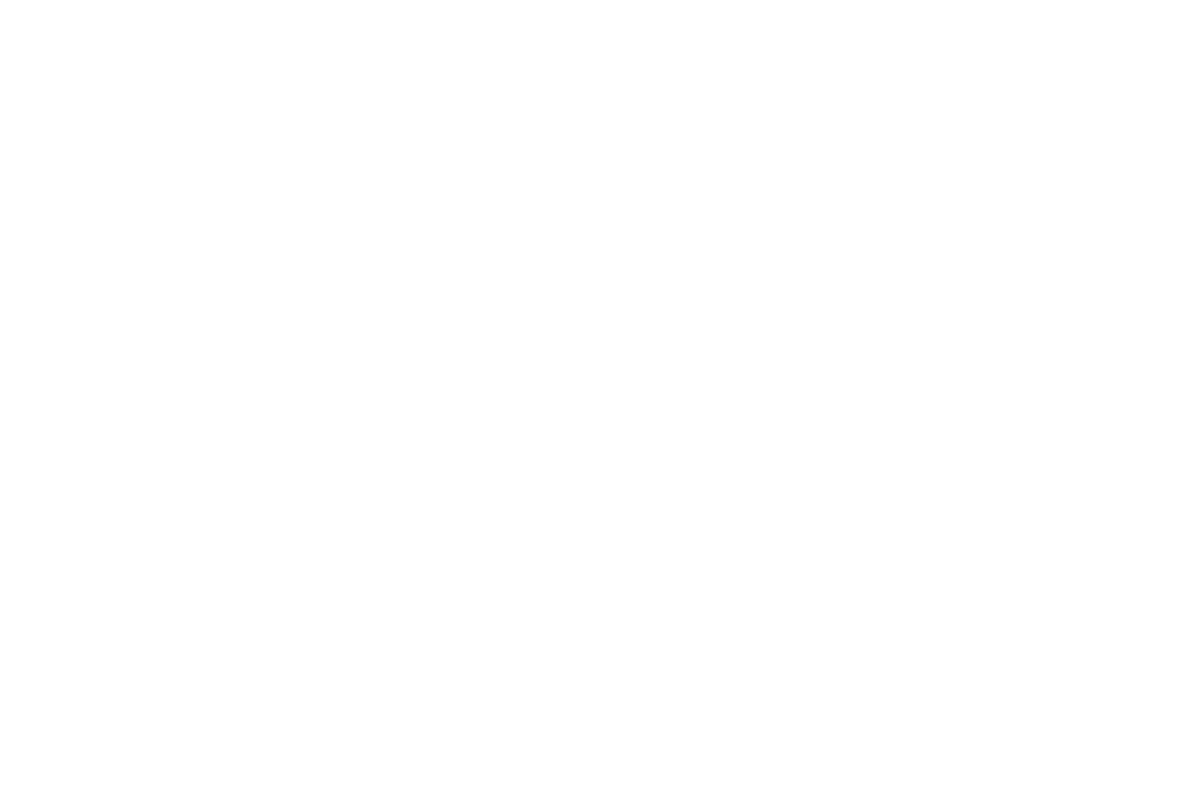
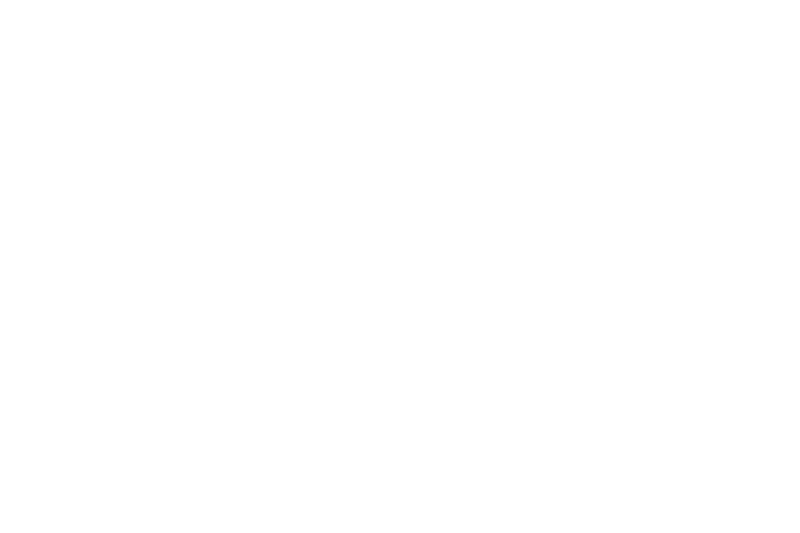
Сказка «Как бывало в старину»
Воронежский академический уличный театр и их уникальный предметно-пластический спектакль. Он посвящён двум легендарным воронежским сказительницам – Анне Корольковой и Анне Куприянихе. Постановка создана при участии театра Странствующие куклы господина Пэжо.
Эта постановка – дань уважения и мостик между поколениями. В основе – диалог бабушки Марьи Ивановны (Мэри Горемыкиной), которая жила по соседству с Корольковой, и её внучки Еленки (Елены Сапоговой). Это семейная постановка для любого возраста, но особенно – для детей: она учит слушать, наблюдать и обсуждать увиденное. А ещё обратите внимание на костюм: юбка символизирует «гору сказок» и состоит из лоскутов, в каком-то смысле повторяя структуру сказки: «кто-то так рассказал, кто-то этак, кто-то добавил, а кто-то преукрасил». На вершине горы сказок тот, кто её рассказывает – Сказительница. Какие ещё смыслы заложены в спектакль – в интервью с актрисами.
Эта постановка – дань уважения и мостик между поколениями. В основе – диалог бабушки Марьи Ивановны (Мэри Горемыкиной), которая жила по соседству с Корольковой, и её внучки Еленки (Елены Сапоговой). Это семейная постановка для любого возраста, но особенно – для детей: она учит слушать, наблюдать и обсуждать увиденное. А ещё обратите внимание на костюм: юбка символизирует «гору сказок» и состоит из лоскутов, в каком-то смысле повторяя структуру сказки: «кто-то так рассказал, кто-то этак, кто-то добавил, а кто-то преукрасил». На вершине горы сказок тот, кто её рассказывает – Сказительница. Какие ещё смыслы заложены в спектакль – в интервью с актрисами.
Слово не только развлекает, но и лечит: оживляя зрителей, оно оживляет и саму усадьбу.
Для того чтобы сыграть роль сказительницы, актриса Мэри Горемыкина изучила не только сказки, но и речь воронежских сказителей:
«Эта роль – особенная для меня. Я долго готовилась. О Куприянихе сохранилось меньше материалов, а вот у Корольковой есть записи. Я могла слышать её голос, интонации, акающий говор. Я слушала, повторяла, накладывала на сказку. У Корольковой речь спокойная, убаюкивающая. Но если бы я полностью воспроизвела её манеру, зрители уснули бы. Поэтому я добавила энергии, чтобы удерживать внимание. В итоге образ Марьи Ивановны – это и бабушка с деревенским говором, и энергичный персонаж, способный "подбодрить" зал».
«Эта роль – особенная для меня. Я долго готовилась. О Куприянихе сохранилось меньше материалов, а вот у Корольковой есть записи. Я могла слышать её голос, интонации, акающий говор. Я слушала, повторяла, накладывала на сказку. У Корольковой речь спокойная, убаюкивающая. Но если бы я полностью воспроизвела её манеру, зрители уснули бы. Поэтому я добавила энергии, чтобы удерживать внимание. В итоге образ Марьи Ивановны – это и бабушка с деревенским говором, и энергичный персонаж, способный "подбодрить" зал».
- Мэри Горемыкинаактриса
Для начала поговорим про образ сказительницы
— Ваш костюм – он ведь тоже декорация и сцена. Как он создавался?
— Этот костюм – часть режиссуры, он выражает идею спектакля. В отличие от других постановок, у нас всё компактно: костюм складывается, юбка снимается, всё помещается в чемодан. Три предмета – и сцена готова. Задумка трюковой юбки принадлежит Анне Шишкиной («Матушке Медоуз», режиссёру театра Пэжо, которая была приглашена к работе над спектаклем. – Прим. ред.), а художник Наташа Михеева воплотила её в жизнь. Она же сделала кокошник. Работа была тяжёлой, но результат потрясающий. Мы репетировали, Анна вносила правки, а Наташа тут же всё переделывала. Две недели – и костюм ожил.
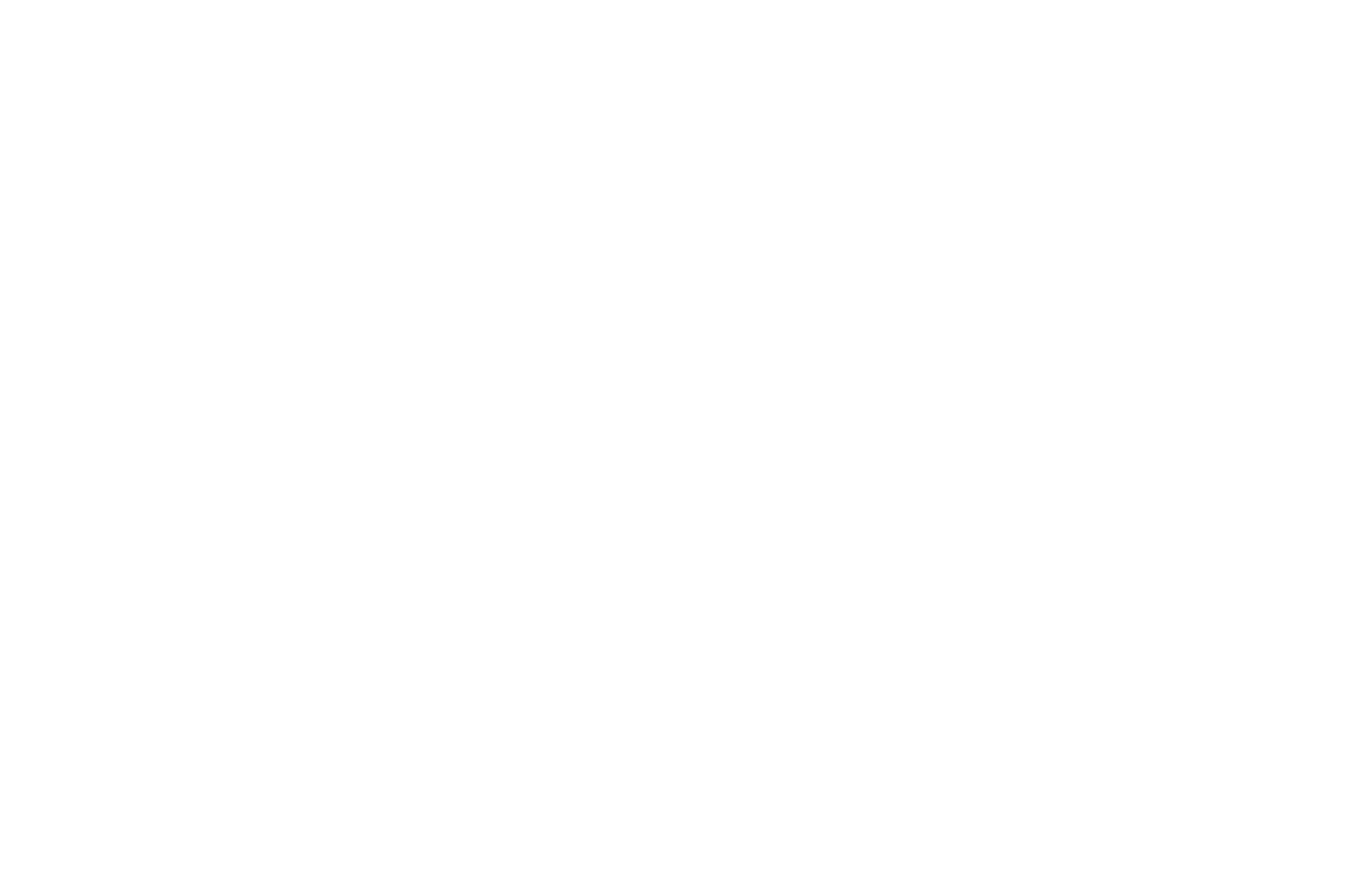
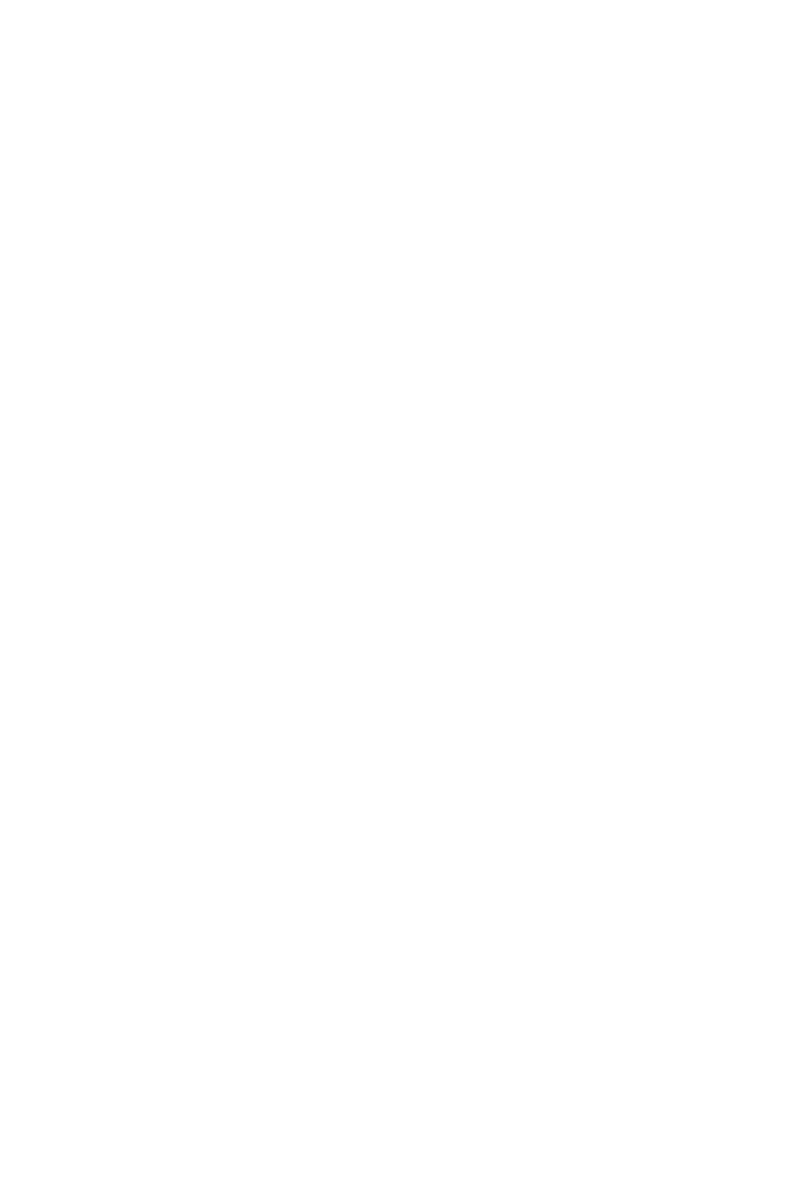
Постановка пропитана историей о преемственности и о том, как в старину передавались сказки. Во многом спектакль поддерживает и фольклорные традиции, и интерес к сказкам.
— Как вы с этим работали?
— У Куприянихи тексты жёсткие, без надежды на счастливый конец. Но Анна нашла способ смягчить материал – добавила юмор, и напряжение снялось. Так получилось сочетание «сказки-ужастика» и морализаторского элемента. Есть и светлые сказки – например, «Семён Пьяница». Она написана грубым языком, но в основе – история ангела, который, пожалев младенцев, лишился крыльев и оказался среди людей. Постепенно он заслужил возвращение на небо. Это очень трогательный сюжет.
Кроме того, спектакль не о самих сказках, а о сказителях, об их судьбах, о преемственности. Две куколки превращаются в реальных женщин, и это производит сильный эффект. В финале внучка Еленка начинает рассказывать сама. Традиция перешла следующему поколению.
Кроме того, спектакль не о самих сказках, а о сказителях, об их судьбах, о преемственности. Две куколки превращаются в реальных женщин, и это производит сильный эффект. В финале внучка Еленка начинает рассказывать сама. Традиция перешла следующему поколению.
“
Образ Еленки придумала сама актриса Елена Сапогова в процессе репетиций. Мы не знали, будет ли её персонаж отличницей или озорницей. В итоге получилась хулиганистая девочка лет 11-13, которая и любит бабушку, и спорит с ней, подшучивает, протестует. Это естественно для её возраста. Даже в песнях у нас вышел контраст: я пою «по-бабушкиному», а Лена – с протестной ноткой. Это её психофизика, которая попала в точку.
познакомим вас с еленкой
В Ленке действительно чувствуешь девочку, которая вот-вот станет тем самым подростком со своим собственным протестным миром. Вот что рассказывает о ней сама актриса: «Она непоседлива, гиперактивна. Сказки эти уже десять тысяч раз слышала, и ей скучно. Поэтому она пытается разнообразить повествование своими выходками. Это игривый, хитрый персонаж».
— В спектакле создаётся контраст: бабушка рассказывает мягко, а Ленка как будто «схлапывает» сказку, говорит жёстче. Это важная часть образа?
— Это родилось в тандеме с режиссёром. Анна изначально сказала: «Я не знаю, какой ты будешь: отличницей, озорницей или тихоней». В процессе мои находки закреплялись, и образ Еленки вырос из моей психофизики. Даже мой костюм контрастирует с бабушкиным. У неё костюм-декорация, а у меня – подвижный, игривый.
— Как для тебя выстраивается звуковая составляющая спектакля?
— Я ориентируюсь на партнёршу. Она ведёт, я резонирую. Музыка встроена в спектакль, речь сказительницы тоже музыкальна, поэтому у нас всё работает синхронно.
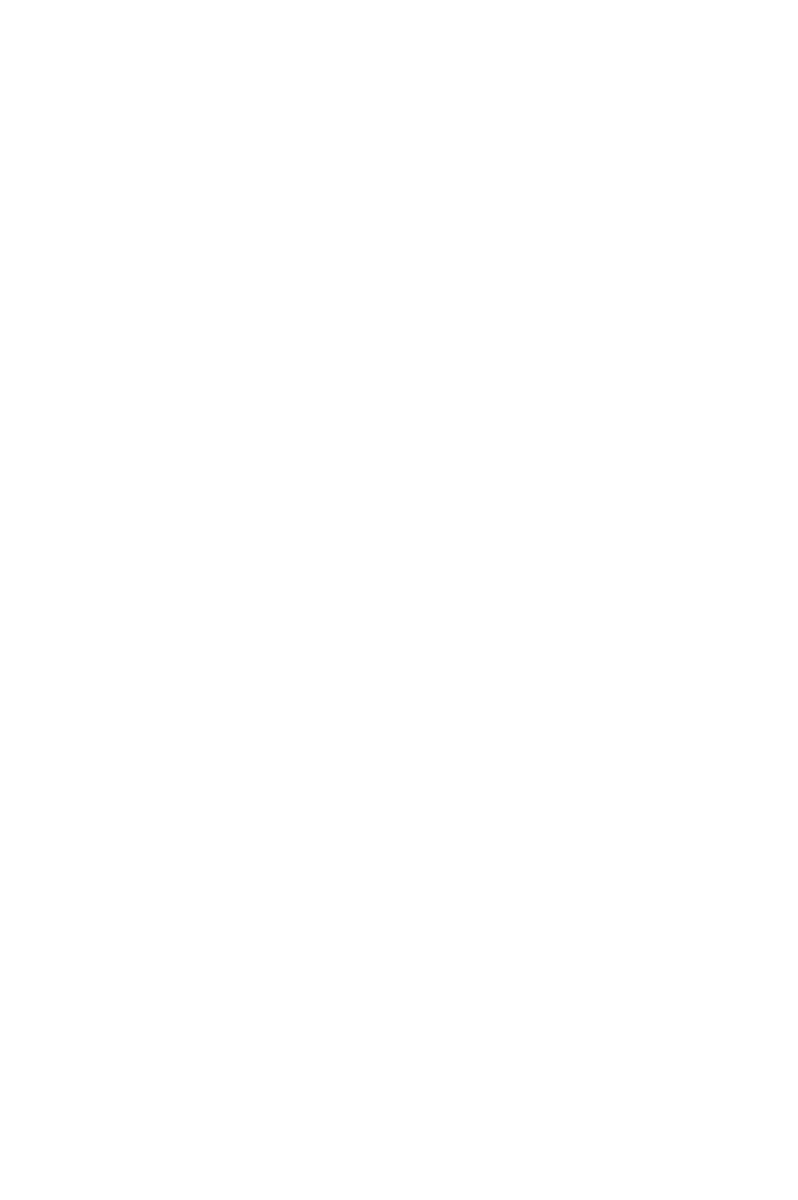
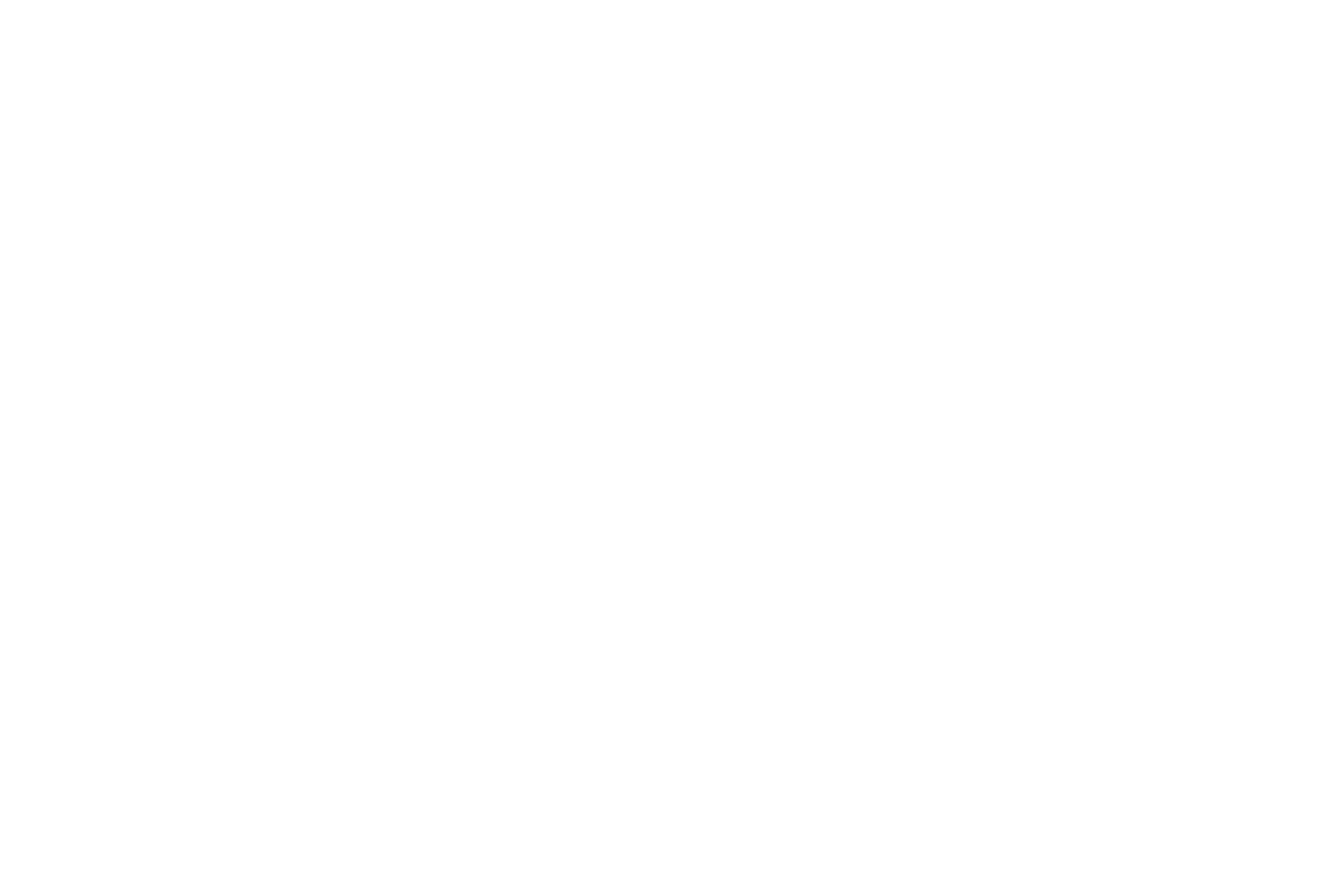
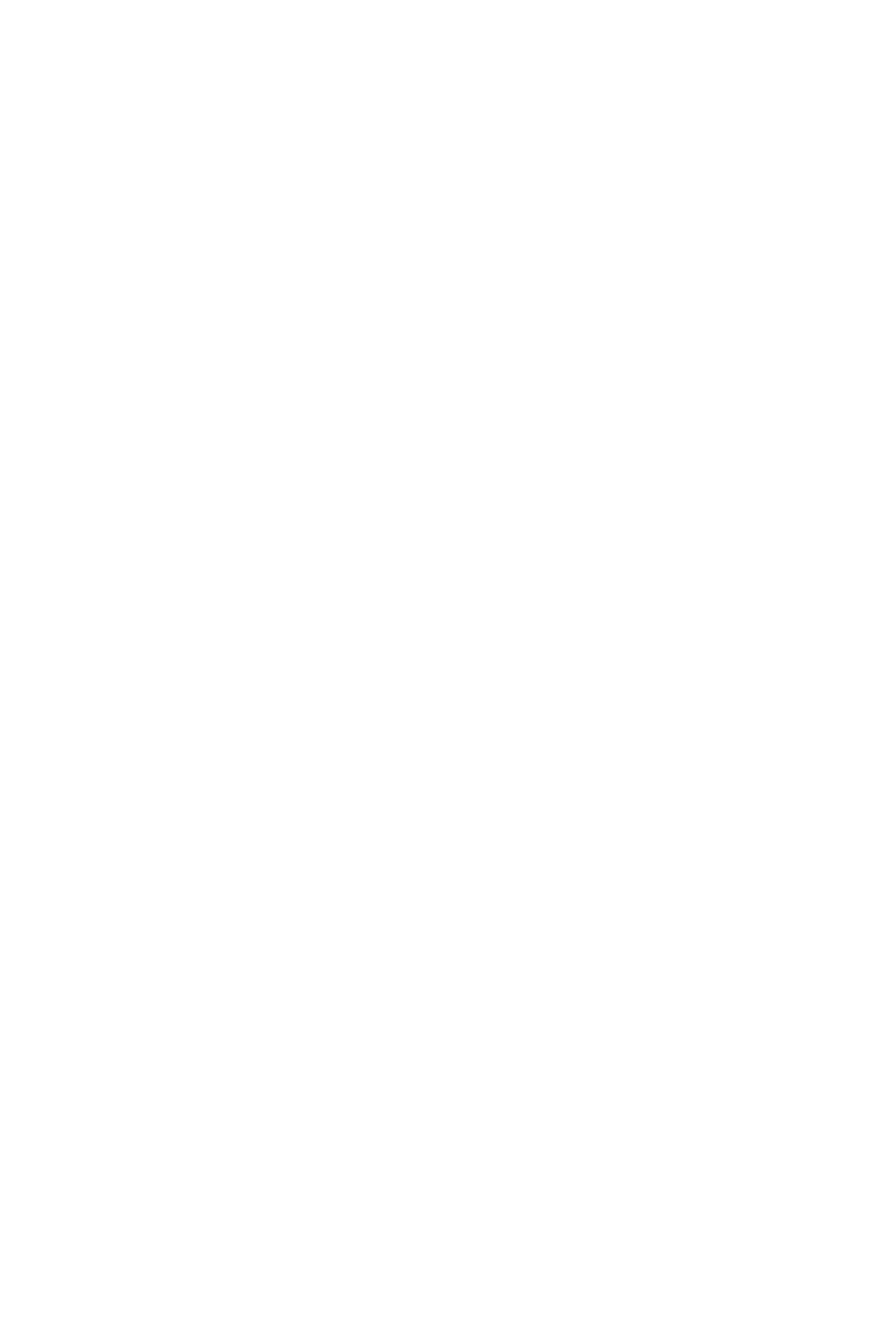
Один спектакль способен возродить и интерес к фольклору, и к усадьбам, и к уличным театрам.
Музыка как дисциплина и вдохновение
Иногда импровизация становится школой. Композитор Фрося Скотникова рассказывает, как спонтанные музыкальные находки превращаются в строгие партитуры, а актёры учатся существовать в ритме музыки.
- Фрося Скотниковакомпозитор
— Это сложно – писать музыку к спектаклям и перформансам?
— Создание музыкального сопровождения к спектаклям – интересный и живой процесс. Что-то я пишу заранее, по описанию режиссера, а что-то сочиняю в процессе. Это довольно свободная история, но важно понимать, какая нужна атмосфера.
В процессе я слушаю, как актёр читает, импровизирую под его темп, потом закрепляю и записываю. Иногда прошу повторить в том же темпе. Это дисциплинирует: актёр закрепляет свою импровизацию и превращает её в профессиональный навык. Это синергия музыки и текста, и я очень люблю этот процесс. Например, первая сказка в спектакле «Как бывало в старину» целиком записана, а актриса Мэри подстраивается под звуки и паузы. Это оказалось полезным: она растёт как актриса, учится темперировать текст, а спектакль держит ритм и длится ровно 35 минут. Для меня это тоже был урок: доверилась режиссёру – и всё сработало. Теперь мы думаем о серии аудиосказок.
В процессе я слушаю, как актёр читает, импровизирую под его темп, потом закрепляю и записываю. Иногда прошу повторить в том же темпе. Это дисциплинирует: актёр закрепляет свою импровизацию и превращает её в профессиональный навык. Это синергия музыки и текста, и я очень люблю этот процесс. Например, первая сказка в спектакле «Как бывало в старину» целиком записана, а актриса Мэри подстраивается под звуки и паузы. Это оказалось полезным: она растёт как актриса, учится темперировать текст, а спектакль держит ритм и длится ровно 35 минут. Для меня это тоже был урок: доверилась режиссёру – и всё сработало. Теперь мы думаем о серии аудиосказок.
Музыка удерживает время, дисциплинирует актёров и задаёт ритм.
«Белые пряхи» - особенные образы, что сопровождали усадебную жизнь
Коллекция посвящена женщине, женским ремеслам и философии. Когда девочка рождалась и начинала что-то делать руками, ей делали маленькую прялочку, и она училась ремёслам, сучила нить своей судьбы. Затем, становясь молодой женой и матерью, она продолжала заниматься рукоделием, создавая ткань. В коллекции прослеживается эта нить женского пути.
Мы поговорили с создательницей этой одежды – Светланой Оспищевой.
[узнать больше]
Мы поговорили с создательницей этой одежды – Светланой Оспищевой.
[узнать больше]
- Светлана Оспищевадизайнер
— Эта одежда – переосмысление аутентичного русского костюма?
— Да, это нетрадиционный русский костюм, художественная трансформация и попытка переосмысления русской жизни и судьбы. Здесь присутствуют элементы – косаклиный сарафан, епанечка, завески и головной убор-кокошник. В коллекции использовано много техник, например, сборка маленьких кусочков ткани особенным образом, чтобы создавался эффект меховой текстуры. Это очень фактурная, красивая техника.
Я использовала много разных тканей – почти все из закромов, сундуков. Здесь очень много бабушкиных кружавчиков, шитьё советских времён, батист с вышивкой, этнографические ткани, которые достались мне от бабушек и тётушек, пуховый оренбургский платок. В работе я следую традиции, когда в деревне очень бережно относились к вещам и даже маленький лоскуток не выкидывали, а применяли.
Я использовала много разных тканей – почти все из закромов, сундуков. Здесь очень много бабушкиных кружавчиков, шитьё советских времён, батист с вышивкой, этнографические ткани, которые достались мне от бабушек и тётушек, пуховый оренбургский платок. В работе я следую традиции, когда в деревне очень бережно относились к вещам и даже маленький лоскуток не выкидывали, а применяли.
результат творческой лаборатории – перформанс «Ступени»
Танец, слово, звук, музыка, маска, ткани, костюмы – разные языки оживления. Все они соединяются на фестивале, который превращает заброшенные пространства в места встречи прошлого и будущего. Оживление усадеб – это не только культурная программа, но и форма создания сообществ. Это особые точки сборки, где люди могут почувствовать себя частью большего, где оживает не только архитектура, но и сама память.
О ком мы говорили в материале
- Усадьба Спасское-Куркино, ВологдаПредставляет собой один из крупнейших и красивейших на Вологодчине историко-архитектурных ансамблей провинциальной усадебной культуры XIX века.
- Уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо»Театр маски, пластики и интерактива с авторской эстетикой и собственной школой движения.
- ПДТ / Петровский деревенский театрТеатр в деревне Петровки Тёмкинского района Смоленской области от актёров Юрия Макеева и Ольги Калашниковой.
- ВАУ театрПервый воронежский уличный театр был инициирован международным Платоновским фестивалем искусств при поддержке театра Странствующие куклы господина Пэжо.
- ЯСЕНь ФЕСТСтранствующий фестиваль уличного театра в русской усадьбе, который объединяет искусство и культуру русской усадьбы.
Об усадебном мифе - одна из лекций для участников.
Редакция канала [Новый Русский // Культурный Код]
Больше новостей в канале "НОВЫЙ РУССКИЙ"