


Ароматы.
Память пахнет скошенной травой
В 1982 году появляется термин «аромакология» – наука о том, как запахи влияют на психику, эмоции, здоровье. В 2004-м нобелевские лауреаты Ричард Аксель и Линда Бак объяснили механизм обнаружения запахов.
И эта реакция – доязычная, докогнитивная.
РЕАКЦИЯ
МОЗГ
НЕЙРОН
РЕЦЕПТОРЫ
МОЛЕКУЛА
Память пахнет скошенной травой
Если звук – это резонанс, свет – отражение, то запах – это самая краткая дистанция между человеком и его прошлым: не фотография и не письмо, а запах духов, остывшего супа, листвы, чая с крошками печенья. Память обоняет.
Помимо культурного контекста, есть и банальная физиология. Скажем, 960 раз в час человек вдыхает. И каждый вдох – потенциальная точка входа: для воспоминаний, для желаний, для покупок. При этом ароматы (среди которых в том числе неприятные) не спрашивают разрешения. Они являются одной из самых первых форм познания мира. До речи, до счёта – был дым, благовоние, тело, кровь и их маскировка. Обоняние – древнейший сенсор, работающий непосредственно с эмоциональной памятью. Дети, рождаясь, также в большей степени опираются на запахи, а не на зрение.
Сегодня у нас есть анатомия, нобелевские лауреаты, классификации Линнея, Хеннинга, Крокера, маркетинг, основанный на запахах. Мы знаем, как устроен нос. Но культурный нос – другой. Он слышит иное.
Помимо культурного контекста, есть и банальная физиология. Скажем, 960 раз в час человек вдыхает. И каждый вдох – потенциальная точка входа: для воспоминаний, для желаний, для покупок. При этом ароматы (среди которых в том числе неприятные) не спрашивают разрешения. Они являются одной из самых первых форм познания мира. До речи, до счёта – был дым, благовоние, тело, кровь и их маскировка. Обоняние – древнейший сенсор, работающий непосредственно с эмоциональной памятью. Дети, рождаясь, также в большей степени опираются на запахи, а не на зрение.
Сегодня у нас есть анатомия, нобелевские лауреаты, классификации Линнея, Хеннинга, Крокера, маркетинг, основанный на запахах. Мы знаем, как устроен нос. Но культурный нос – другой. Он слышит иное.
Запах – это не вещь, а принцип организации целого
В некоторых исследовательских работах упоминается понятие «обонятельного пространства», которое, подобно визуальному или музыкальному, организует восприятие мира: оно не просто регистрирует ощущения, но структурирует художественное и жизненное целое. В этом смысле запах – философская категория, неотделимая от культуры. А потому – и от литературы, поэзии, архитектуры, моды, психоанализа, города и тела.
«Запах как культурный феномен – идеальная форма, наполнение которой зависит от культурной принадлежности человека, его индивидуального опыта, от момента, ситуации».
М. А. Епанешникова.
М. А. Епанешникова.
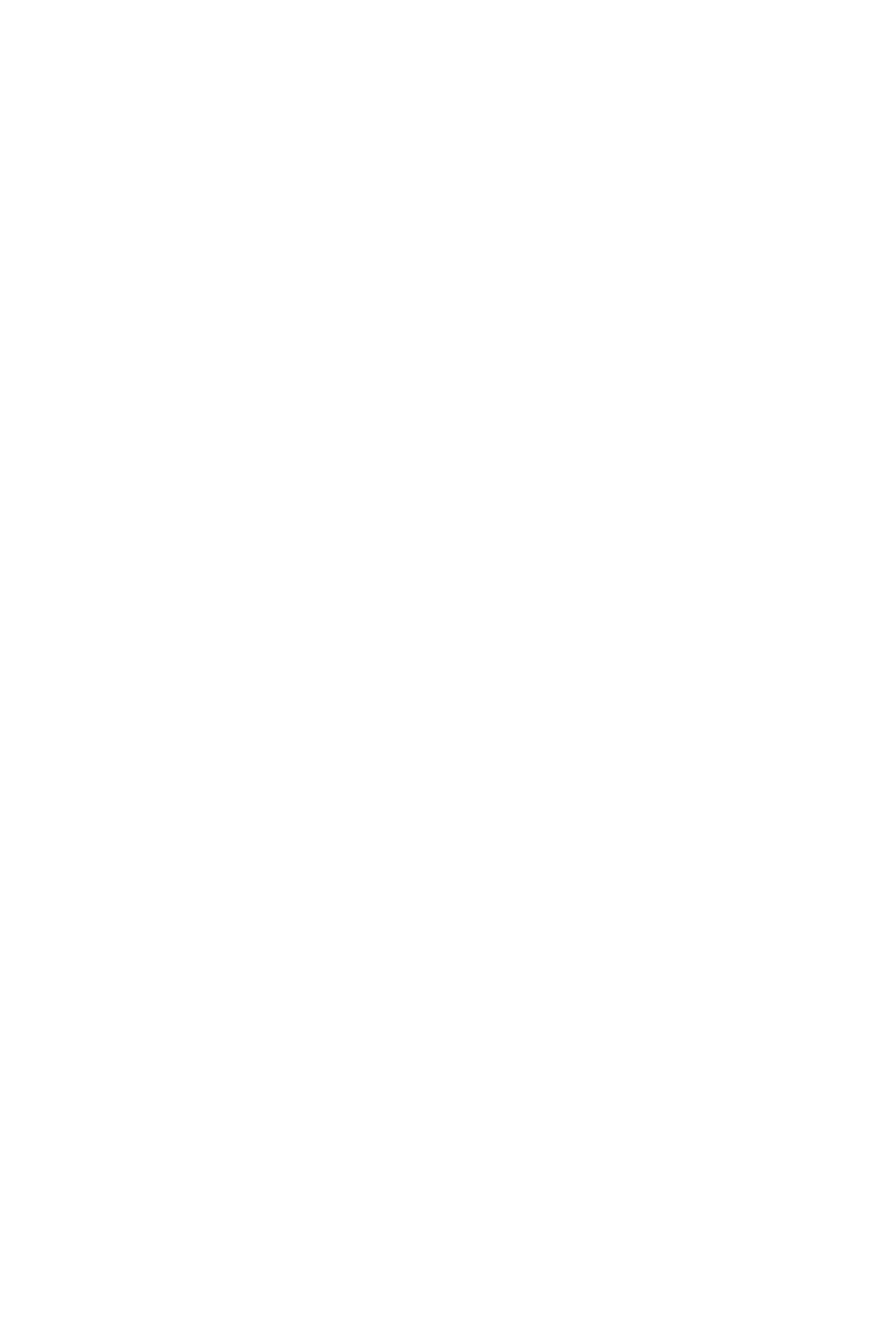
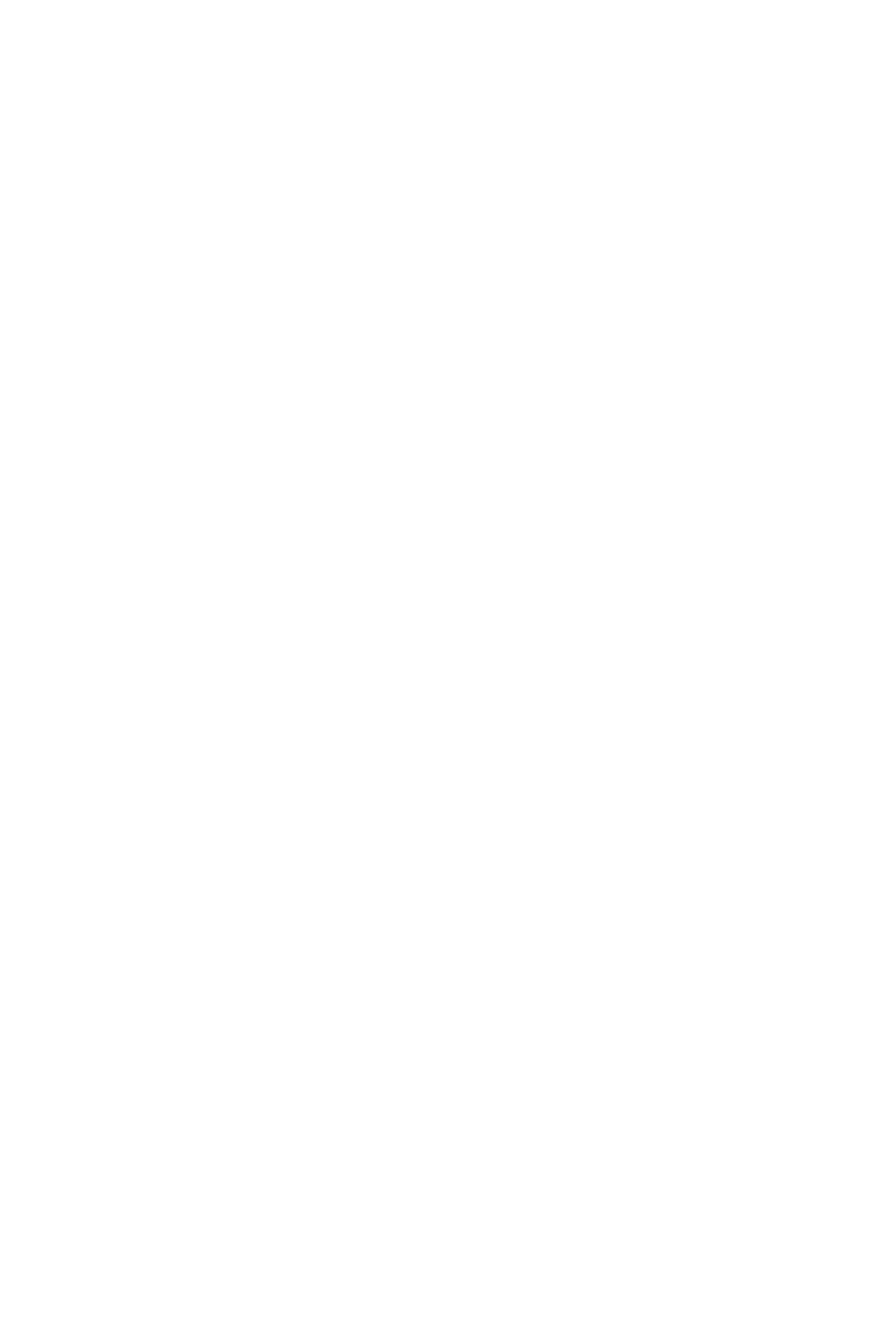
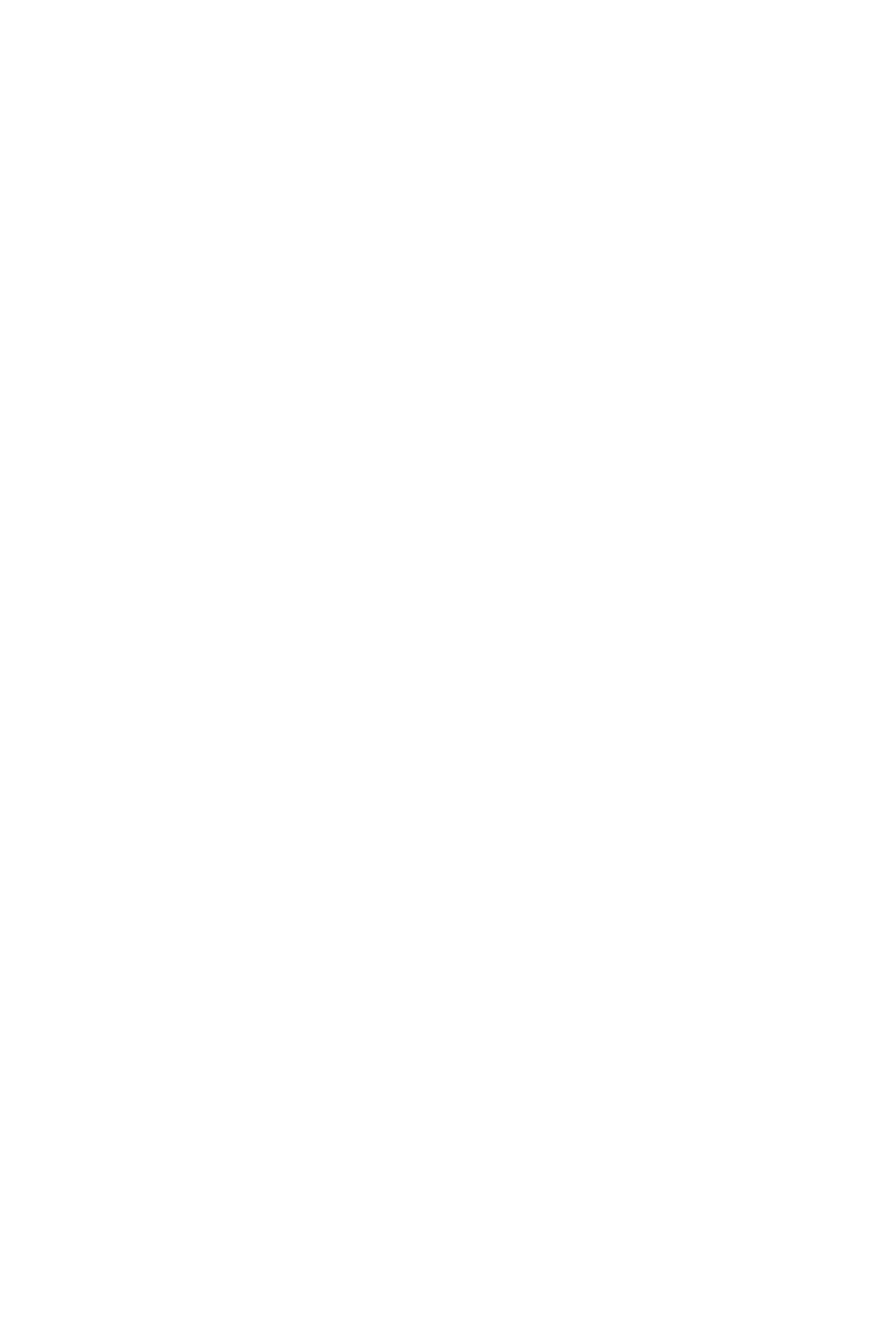
Мы можем сказать, что запах воспринимается телом, но живёт в культуре. Его нельзя объективно измерить, потому что он всегда в моменте: между телом, памятью и пространством. При этом он может быть почти физически осязаем. Например, мы можем почувствовать, что запахи обнимают.
«Обоняние, вкус — вот что увлекало человека, словно зверя, за собой. Теперь орган обоняния уже не царит в человеке — до земли, до травы далеко — и царит глаз».
И. Гедер
«„Обоняние“ дискредитировано за чрезмерную физиологичность, в самом вертикальном строении тела человека уже присутствует вектор, уводящий от земли и запросов тела к небу и духовным потребностям».
Н. А. Рогачёва
Именно поэтому исследовать запах как культурный феномен – не дань моде, а попытка понять, как культура телесно говорит сама с собой.
Каждое общество вырабатывает свою ароматическую ось. Эта интуитивная шкала, и запахи распределяются обычно по трём полюсам: приятное, нейтральное, неприятное/зловонное. Эта ось – не универсальна, она создана языком, ритуалами, архитектурой, историей. Версаль XVII века или бал при Екатерине пах так, что современный человек сбежал бы. А для своих современников это было нормой и даже роскошью.
Каждое общество вырабатывает свою ароматическую ось. Эта интуитивная шкала, и запахи распределяются обычно по трём полюсам: приятное, нейтральное, неприятное/зловонное. Эта ось – не универсальна, она создана языком, ритуалами, архитектурой, историей. Версаль XVII века или бал при Екатерине пах так, что современный человек сбежал бы. А для своих современников это было нормой и даже роскошью.
Символическая функция
Запах – настоящий портал в прошлое, триггер для неуловимых воспоминаний. Его символическая сила обусловлена тем, что он всегда оценочен: приятен или нет – в зависимости от культуры, памяти, еды, раннего детства, погоды. Объективного запаха не существует. Возможно, запах – только впечатление, усиленное временем. И если мы говорим о том, что ностальгия и память обнаруживаются при попадании в среду с определенными запахами, то неудивительно, что это осязаемое воспоминание пытаются закупорить, чтобы не забыть и погрузиться в него в любой момент.
Объяснить это, как ни странно, можно с помощью биологии. В носу около 400 рецепторов, которые способны различать более 10 000 запахов. А запахи, которые хранят столько эмоций, невероятно малы.
Объяснить это, как ни странно, можно с помощью биологии. В носу около 400 рецепторов, которые способны различать более 10 000 запахов. А запахи, которые хранят столько эмоций, невероятно малы.
Запахи измеряются в дальтонах. Один дальтон равен 1.66053892 × 10⁻²⁷ кг. Мы почувствуем запах в том случае, если молекулы, которые его источают, будут от 17 до 300 дальтонов. Например, кислород (16 дальтон) не пахнет совсем, а его модификация озон (48 дальтон) – вполне ощутима. Это тот самый свежий запах, который мы чувствуем после грозы.
Они легко проникают в нас и моментально передаются в мозг – но не куда-нибудь, а прямо в лимбическую систему – тот самый блок мозга, который отвечает за эмоции и долговременную память. То есть до того, как ты осознаешь запах, он уже что-то с тобой сделал.
«Запахи воздействуют бессознательно – в отличие от вкуса или слуха».
Bradford & Desrochers, 2009 г.
Bradford & Desrochers, 2009 г.
Но, конечно, не биологией единой. В романе «В сторону Свана» Пруст описывает, как включается механизм памяти в связи с определённым запахом и как человек вспоминает, казалось бы, забытые детские воспоминания. Это натолкнуло учёных и исследователей на создание понятия «феномен Пруста», в рамках которого описывается как «обонятельная память».
«И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, которым меня угощала тётя… в то же мгновенье старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тётиной комнаты, пристроился, как декорация, к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей… А стоило появиться дому — и я уже видел городок, каким он был утром, днём, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. <…> весь Комбре и его окрестности — всё, что имеет форму и обладает плотностью — выплыло из чашки чаю
«По направлению к Свану»
«По направлению к Свану»

«Мадленка» Пруста
Это одна из самых знаменитых сцен мировой литературы. Главный герой окунает печенье в чай, а затем на протяжении сотни страниц переносится в детство, с которым у него ассоциируется вкус этого печенья:
Запах как образ и репрезентация
Репрезентативная функция раскрывает, как человек выбирает себя через аромат. Духи – это не просто усилитель тела, это дисплей ценностей, социальный образ, гендерный жест. Покупая аромат, мы присоединяемся к его истории. Мы встраиваем себя в поле культурных значений. Иногда – временно, как маску. Иногда – навсегда.
Запахи и парфюмы в истории двигались от украшения тела к его подавлению. Сегодня культура делает ставку на нейтральность. Природный запах тела почти полностью вытеснен. Это последствия гигиенической революции XIX–XX веков, индустрии чистоты и дезодорированных домов, маркетинга современности.
Сегодняшний нарратив отсылает в основном не к запахам человека, а скорее к тем, что вокруг. Аромат сегодня – часть локальной идентичности . Туризм, гастрономия, ремесло — всё упаковывается в местный запах.
Запахи и парфюмы в истории двигались от украшения тела к его подавлению. Сегодня культура делает ставку на нейтральность. Природный запах тела почти полностью вытеснен. Это последствия гигиенической революции XIX–XX веков, индустрии чистоты и дезодорированных домов, маркетинга современности.
Сегодняшний нарратив отсылает в основном не к запахам человека, а скорее к тем, что вокруг. Аромат сегодня – часть локальной идентичности . Туризм, гастрономия, ремесло — всё упаковывается в местный запах.
как невидимый сувенир, который возвращает в определённое место
как носитель культурной памяти
как доказательство подлинности
ЗАПАХ ВЫСТУПАЕТ:
Первая половина лета — время собирать ольфакторные впечатления. Сладкая липа, нежный жасмин-чубушник, винная сирень, аппетитная сурепка.
С самого детства мы знаем что надо делать — взять соцветие, лист и вложить между страницами книги. Например, NŌSE Remember помогает помнить о таком лете.
Трогательные чувства, когда от волнительного предвкушения пощипывает в носу. Внутри — запечатленное время первой счастливой любви, в которой все прозрачно, взаимно, ясно: краски ярче, воздух свежее, и каждая мелочь имеет лирический смысл.
Аромат звонкой чистоты, невинности и света, раннего летнего утра, белоснежных страниц можно постараться найти в аромате PRUST
Улица и дом, куда стремятся мысли <…> Место, где ждут: оно пахнет спелой малиной, ванилью и ромовым пралине, в хрустальной вазочке лежат лимонные дольки, в фарфоровой чашке стынет чай с бергамотом, а воздух пропитан лавандой, фиалкой и пачули.
Вернуться в детство можно с ароматом DETSTVO от проекта Predubezhdai, но вполне возможно оно не окажется конкретно вашим.
Города и сёла как шкатулки с запахами
Города пахнут. Особенно у поэтов. В конце XIX века одорические образы ещё эпизодичны: «дымный город», «смрад каналов».
Понятие «одорический» происходит от французского слова «odeur», то есть «запах». Одорические явления традиционно становятся объектом художественных описаний, репрезентации и передачи информации.
Но с приходом поэтической прозы и урбанистической лирики запах становится строительным элементом. Саша Чёрный, Князев, Скалдин создают смердяковскую карту города: конский навоз, трупный газ, жирный дым – всё это не просто антураж, а характер.
«Протухшая, кислая, скучная, острая вонь»
С. Чёрный, «Санкт-Петербург»
1910 г.
Автор фото: Я. В. Штейнберг
В XX веке запах перестаёт быть знаком «другого мира» и становится самостоятельным сюжетообразующим элементом. Он не описывает – он действует. Он душит, возбуждает, утешает, входит в дыхание героя и в композицию стиха.
Сегодня запахи городов связаны с индустриализацией, расположением, территорией и многими других факторов. Исследовать это сложно, ведь запахи не только субъективны, но и сложно фиксируемы.
Сегодня запахи городов связаны с индустриализацией, расположением, территорией и многими других факторов. Исследовать это сложно, ведь запахи не только субъективны, но и сложно фиксируемы.
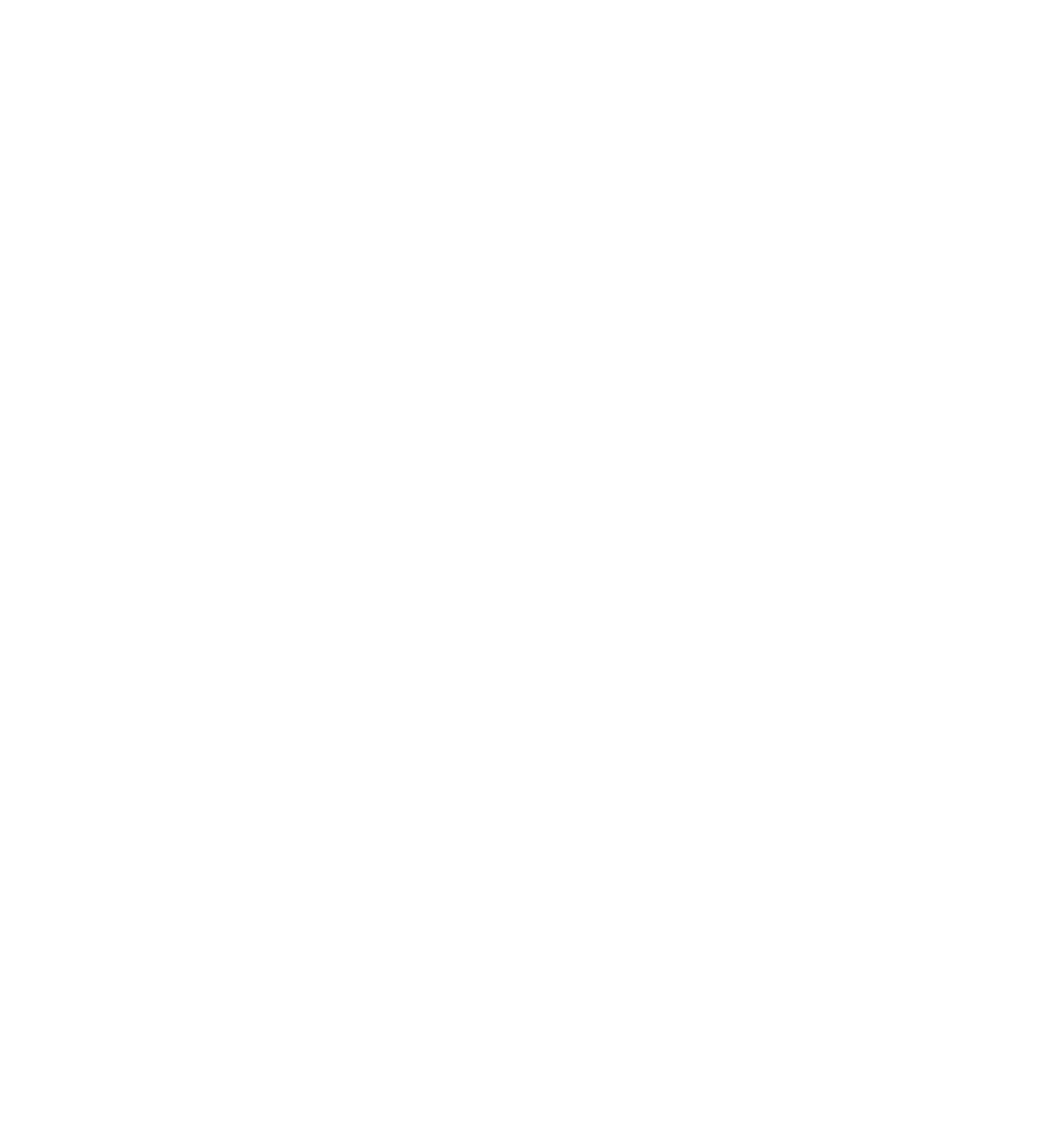
Проект Smelly Maps занимается исследованием городских запахов. В рамках такой работы было взято более 22 миллионов фотографий из публичных аккаунтов и 5.3 миллиона твитов с привязанными геотегами. Из всего массива слов, спарсенных из этого материала, были отобраны связанные с запахами, и создана схема их взаимосвязей. В основе графа (структуры, которая используется для моделирования связей между различными объектами) – сами слова, а «вес» ребра соответствует количеству раз, когда эти два слова встречаются в одном тексте. Такой анализ выявил несколько чётких категорий запахов. Среди них – «природные», «индустриальные», «еда», «выбросы/выхлопы», «мусор». Внутри категорий иногда можно было выделить подкатегории и определить самые часто встречающиеся слова-метки этой категории. Цвета выбраны в соответствии со связью между запахами и негативными или позитивными эмоциями: «мусор» – негативные эмоции, но никак не радость.
Ритуальная функция
Оговоримся, что ритуалы бывают очень разными. Вечер у костра с гитарой, посещение церкви в воскресенье, мандарины у ёлки и многое другое – всё это повторяющиеся нарративы. Они создают, переносят в определённый контекст целые группы людей.
Так, ладан в церкви – не только благоухание, а архитектура ощущения священного. Запах костра – память о единении, несмотря на погоду и условия, смешанный с запахами леса, рассветной прохлады.
Ритуалы бывают разными и при этом трансформируются. Например, ранее люди целыми сёлами выходили на покосы. Запах скошенной травы был одним из самых успешных ароматов ещё в царской России. Сегодня, как и ранее, многих из нас впечатляет этот яркий запах: проходя в парке Горького мимо свежескошенного газона, едва ли кто-то не заметит этот аромат. Его можно не любить, но пройти просто мимо, не замедлившись – попросту невозможно.
Запах как феномен работает сразу в двух регистрах: природном и культурном. Он и молекула, и метафора. Он дан телом, природой, но переосмыслен ритуалами, требуя контекста.
Культура учит нас, какие запахи допустимы, а какие нет. И то, что когда-то было нормой, сегодня может быть «преступлением против носа». В этом смысле запах — лакмус культуры. Её неуловимый, самый интимный индикатор.
Так, ладан в церкви – не только благоухание, а архитектура ощущения священного. Запах костра – память о единении, несмотря на погоду и условия, смешанный с запахами леса, рассветной прохлады.
Ритуалы бывают разными и при этом трансформируются. Например, ранее люди целыми сёлами выходили на покосы. Запах скошенной травы был одним из самых успешных ароматов ещё в царской России. Сегодня, как и ранее, многих из нас впечатляет этот яркий запах: проходя в парке Горького мимо свежескошенного газона, едва ли кто-то не заметит этот аромат. Его можно не любить, но пройти просто мимо, не замедлившись – попросту невозможно.
Запах как феномен работает сразу в двух регистрах: природном и культурном. Он и молекула, и метафора. Он дан телом, природой, но переосмыслен ритуалами, требуя контекста.
Культура учит нас, какие запахи допустимы, а какие нет. И то, что когда-то было нормой, сегодня может быть «преступлением против носа». В этом смысле запах — лакмус культуры. Её неуловимый, самый интимный индикатор.
Ольфакторий: как литература учится обонять
«Существует такой специальный термин, который обозначает процесс обоняния (принюхивания, вдыхания запаха, распознавания запаха), он называется ольфакцией. А ольфакторий – это совокупность всех элементов текста, содержащих отсылки к ольфакции. Ещё науку о запахах называют одорологией. Так вот, в зарубежном литературоведении наиболее последовательно проблемой запахов в художественной литературе, или ольфакторием, занимался Ханс Риндисбахер. В 1992 году вышла его книга, не переведённая на русский язык, «Запах книг». Позднее появились некоторые его статьи на русском языке. Сейчас много учёных исследуют тему запахов (я не говорю о естественно-научном направлении, а только о гуманитарном): это культурологи, историки, социологи, философы, экономисты, лингвисты, литературоведы. И если бы стало возможным объединить усилия всех гуманитариев в решении обонятельных проблем, то это могло бы стать залогом успеха в стремлении людей овладеть «последним бастионом» неизведанного в области человеческих органов чувств. На сегодняшний день я проследила ольфакторную традицию в русской прозе, начиная с древнерусских текстов до литературы конца XIX века: по крайней мере, до меня такого исследования пока не проводилось».
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы факультета журналистики ЮУрГУ Наталья Зыховская. Изучить текст полностью здесь.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы факультета журналистики ЮУрГУ Наталья Зыховская. Изучить текст полностью здесь.
С конца XX века запах вошёл в литературу не как фоновая деталь, а как фигура памяти, риторики и власти. Герои произведений поэтов и писателей, таких как Чехов, Есенин и многие другие, «Парфюмер» Зюскинда (1985 г.), монографии Ханса Риндисбахера «Запах книг» (1992 г.) постепенно создавали траекторию, в рамках которой запахи начали восприниматься как язык вне слов.
Современное литературоведение пользуется уже специальным термином – ольфакторий, то есть совокупность всех отсылок к миру запахов и ассоциативное поле вокруг них.
Современное литературоведение пользуется уже специальным термином – ольфакторий, то есть совокупность всех отсылок к миру запахов и ассоциативное поле вокруг них.
Исследователями понятие «ольфакторий» трактуется как обозначение совокупности всех элементов текста, содержащих отсылки к миру запахов, их качества, особенностей восприятия, а также символического поля, образуемого с их помощью либо вокруг них.
«Запахи служат проводниками в иной мир – мир фантазий и снов, голосов других времен и других реальностей»
Н. А. Рогачёва
Н. А. Рогачёва
Польский Исследователь Роман Мних в статье «Семиотика запаха в поэзии А.А. Ахматовой» выделяет три типа взаимодействия с запахами в творчестве поэтессы. В самом начале он говорит о том, что смысл запахов определяется общей
тональностью стихотворения: сами по себе они сухие, тёплые, влажные, горькие, сладкие, но не связаны с обонянием физически, а скорее «чувствствуются» вкусом или осязанием. Например:
тональностью стихотворения: сами по себе они сухие, тёплые, влажные, горькие, сладкие, но не связаны с обонянием физически, а скорее «чувствствуются» вкусом или осязанием. Например:
«Сухо пахнут иммортели / В разметавшейся косе»
(«Жарко веет ветер душный…»),
«Всё сильнее запах тёплый / Мёртвой лебеды»
(«Песенка»)
(«Жарко веет ветер душный…»),
«Всё сильнее запах тёплый / Мёртвой лебеды»
(«Песенка»)
В более позднем творчестве Мних находит запахи, олицетворяющие традиционную европейскую символику. Например, любовь пахнет яблоком, потому что яблоком Ева соблазнила Адама; дикий мёд потому и пахнет свободой, широкими просторами от того, что он дикий; пролитая кровь влечёт новую кровь.
Привольем пахнет дикий мёд,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.
«Привольем пахнет дикий мёд» (1933)
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.
«Привольем пахнет дикий мёд» (1933)
Заключительный тип отсылает к мистической символике. Она выходит за рамки нашего сегодняшнего обсуждения, потому выносим её за скобки, но изучить этот вопрос, ознакомиться с концепцией можно здесь.
Запахи в поэзии Серебряного века – это вещества с философским подтекстом: сладкий керосин – у Мандельштама, запах ландыша – кислый у Бунина. Бродский же почти всегда пишет про вонь. Для него запах – это сигнал нечистот, биологической беспомощности, невозможности спрятать человека от его животности.
«Запахи нечистот затмевают сирень».
И. Бродский, «Сидя в тени»
«Запахи нечистот затмевают сирень».
И. Бродский, «Сидя в тени»
Запах как способ быть в культуре
Ароматы – не просто биология, но биография. Это не про молекулу, а про память, стиль, идентичность; то, что всплывает, исчезает, возвращает. Культура работает с запахом как с материалом: скрывает, превращает, переопределяет, делает его знаком соблазна, бедности, маркером принадлежности. Запах может быть преступлением, признаком времени, предметом культа, формой любви. Эротика, афродизиаки, феромоны – всё это естественные и культурные коды, которые регулируются и осуждаются, подаются и скрываются. Запах связан с сексуальностью сильнее, чем звук или цвет. И культура это дисциплинирует: прячем волосы, прикрываем тело, не приближаемся без повода. Или просто – каплей из прошлого.
«Весь окружающий мир пропитан духами: природа пахнет духами, а не наоборот»
А. Пахомова об эстетике Кузмин
А. Пахомова об эстетике Кузмин
Современный парфюм – это нарратив: у него есть история, характер, настроение. За ним стоит концепция, пропагандирующая гедонизм, смягчённый культурой; стремление к наслаждению, переведённое с тела на духи.
Мгла потрескивается на запястье тлеющими древесными угольками, переливаясь и немного согревая в прохладную осень. Периодически искрятся еще свежие подтеки бензойных смол, вспыхивают неожиданными аккордами сгоревшие цветы и расстилается туман сладковатых гваяковых нот.
МГЛА / Wood Moss
Ода советскому авангарду, где на стальной каркас из универсальных ароматических молекул нанизаны ускользающие образы: поезда, дышащие копчёным паром, холсты, густо покрытые краской, и выглаженный ситец платьев с геометричным узором.
Чёрный отпечаток на фотобумаге.
Чёрный ворс кистей. Чёрный уголь шахт.
«Чёрное на чёрном» Родченко.
Чёрный – квадрат, крест и круг.
Чёрный как синоним бунта и переосмысления.
Чёрный отпечаток на фотобумаге.
Чёрный ворс кистей. Чёрный уголь шахт.
«Чёрное на чёрном» Родченко.
Чёрный – квадрат, крест и круг.
Чёрный как синоним бунта и переосмысления.
ЧЁРНЫЙ / HOLYNOSE
Пробуждение. утро. распахнутое окно. звуки улиц. влажная кожа после душа / вдох…
всепоглощающий поток свежести. звенящая роса. пульсация и мурашки / выдох... / сочность и интенсивность. хрустящая зелень.
свежескошенная трава и клевер. кипарис и ревень. задор и волнение / вдох…
пряная пыль городских джунглей. щекотание в носу. кардамон, чёрный перец и мускатный орех / выдох...
предвкушение и уверенность. кедр и гальбанум. всё по плечу / вдох... / свобода…
всепоглощающий поток свежести. звенящая роса. пульсация и мурашки / выдох... / сочность и интенсивность. хрустящая зелень.
свежескошенная трава и клевер. кипарис и ревень. задор и волнение / вдох…
пряная пыль городских джунглей. щекотание в носу. кардамон, чёрный перец и мускатный орех / выдох...
предвкушение и уверенность. кедр и гальбанум. всё по плечу / вдох... / свобода…
Верхние ноты: альдегиды, пирогенный стиракс
Ноты сердца: кедр, ландыш, дёготь
База: ирис, кожа
Ноты сердца: кедр, ландыш, дёготь
База: ирис, кожа
С ароматом можно попытаться Узнать, где заканчивается туман, а где начинается тьма.
Ноты: гваяк, ладан, деготь, бензоин, ветивер, можжевельник, кожа, каде , белые цветы
Ноты: гваяк, ладан, деготь, бензоин, ветивер, можжевельник, кожа, каде , белые цветы
P S FREEDOM / PURE SENSE
Своеобразное переосмысление понятия "Свобода", созданное чувствами незрячих парфюмеров, сотрудничающих с проектом.
Ноты: верх - мандарин, озон, роса; сердце - свежескошенная трава, клевер, цикламен, ревень, кардамон, мускатный орех, перец; база - кедр, кипарис, гальбанум, амброксан
Ноты: верх - мандарин, озон, роса; сердце - свежескошенная трава, клевер, цикламен, ревень, кардамон, мускатный орех, перец; база - кедр, кипарис, гальбанум, амброксан
Аромат задуман как жемчужина, украшающая как любое место, так и носящего его человека. Яркие и звучные отсылки к маленьким радостям жизни олицетворены в нотах кофейного ликера, лесной черники и сладкого воздуха полей люпина. Varvara оставляет за собой благородный шлейф травянистого ветивера, сливочного сандала и бальзамического, смолистого стиракса.
Varvara / flame moscow
Снег растаял, и в лесу вновь пахнет влажной землей, теплой древесиной и прелыми листьями. Это вот он, тот самый запах!
Леший / Ладаника
Лес, покрытый густой пеленой тумана, где переплетаются ароматы влажной древесины, мха и земли, лес, скрывающий столько тайн...
Именно он стал вдохновением для этого аромата, абсолютно природного, влажно-воздушного, такого знакомого, но все же неожиданного-нового для парфюмерии.
Именно он стал вдохновением для этого аромата, абсолютно природного, влажно-воздушного, такого знакомого, но все же неожиданного-нового для парфюмерии.
Интересный аромат с аутентичной риторикой. Ноты композиции: опавшие листья клёна, лаванда, сушеные грибы, грецкий орех, влажная земля, пачули, ветивер, кедровые орехи, кленовый сироп, дубовый мох, мускусы, амбра, замша
Аромат, носящий прекрасное имя Варвара. Возможно, это утренняя прогулка по ещё пустому парка с напитком из самой ранней кофейни? Верхние ноты: черника, лимон; средние ноты: кофе, люпин; базовые ноты: ветивер, сандал, стиракс
Woods in fog / voronoi
Говорят, что в этом аромате нет надёжной опоры привычных парфюмерных нот, а есть древесность, кожа. Ноты: влажная древесина, корни, земля, зелёные ноты, пачули, ваниль
фото на обложке: Евгений Головезов
Больше новостей в канале "НОВЫЙ РУССКИЙ"
